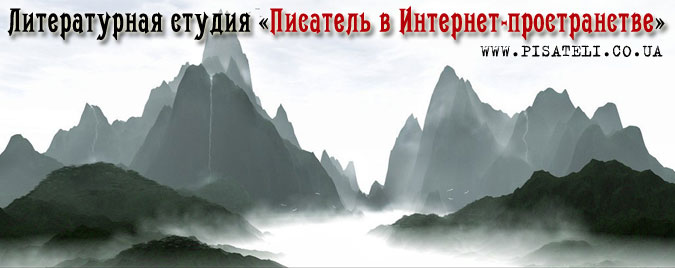Зимой бывают дни такие...
- Подробности
- Категория: Александр Раткевич
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 1868

ПУШКИН У НАЩОКИНА
(16.02.1831г.)
Вечер, как серебрецо,
вздрогнул от испуга –
подкатили под крыльцо
сани, словно вьюга.
Вышел барин – и кричать:
«Таня, друг отменный!» –
целовать и обнимать
кинулся мгновенно.
В сени – хлопнувши дверьми.
Взвился чёрный локон.
«Где ты, чёрт тебя возьми,
милый друг, Нащокин?!»
И уселся на софу,
и глядит на Таню:
«Напишу тебе строфу,
прямо в сердце раню.
А сегодня ранен я –
ведь, поди, слыхала:
холостая жизнь моя
от меня сбежала.
Я женюсь… – И замер весь. –
Прожитое – склянка,
уронил – убавь-ка спесь
и среди осколков днесь
жизнь оставшуюся взвесь…
Эх, споём, цыганка».
Таня ласково берёт
стройный гриф гитары,
звуки льются, словно мёд,
навевают чары:
«Пусто в поле нашем вновь,
вся в пыли дорога –
мой предмет – моя любовь –
от меня далёко.
Холодна висит луна,
от безлюбья злая.
Увезла его жена,
увезла, лихая.
Скачут кони-ловкачи,
вольно, без погони.
Кони чьи, ах, белы чьи?..»
«Да мои ведь кони», –
молвил Пушкин и схватил
голову руками,
как ребёнок загрустил
и заплакал что есть сил
горькими слезами.
«Александр, не надо, брось,
что за униженья,
понимаешь сам, небось,
глупость положенья».
«Павел Войнович, прости, –
вырвалась помеха;
ты же знаешь, что в чести
у меня потеха.
Только Таня молодец!
Что за песня – сила:
душу мне с конца в конец
всю разбередила…
Что ж, в свидетели скрижаль,
есть ли, нет ли мочи,
только больше мне печаль,
словно тёмная вуаль,
не покроет очи.
Эх, с цыганскою гурьбой
мы ещё споём с тобой,
друг и благодетель».
И – на улицу стрелой,
крикнул: «Ну, гони, родной!..»
Бог ему свидетель.
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Благодарю тебя, поэт,
за драгоценные мгновенья,
когда ты озаряешь свет
святой строкой стихотворенья.
Благодарю за тайный час,
когда любви к своей отчизне
сквозь все страданья этой жизни
ты и сегодня учишь нас.
Благодарю за боли цветь,
о кратковременности срока,
что нам отпущен так жестоко,
чтоб просиять и умереть.
Благодарю за дивный бал
разгула и повиновенья,
за те минуты вдохновенья,
когда ты женщин воспевал.
Благодарю за ту струну,
чей звон теперь владеет нами:
что не швырялся ты друзьями
и не отшвыривал страну.
Благодарю тебя… Прости,
что зимней ночью, на рассвете,
я не сумел тебя спасти –
ведь я тогда не жил на свете.
МАЯКОВСКОМУ
Нет, Владимир Владимирович, Вы не правы,
что жизнь завершили свою пистолетом –
сейчас бы жили во славу Державы,
и были бы лучшим в мире поэтом.
А эты горечь – поверьте – она прошла бы
и запеклась, как из резаной раны кровь,
так же, как в сердце обыденной бабы
проходит возвышенная любовь.
1974г.
ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА ГОГОЛЯ
Когда поэт, измученный бессмертьем,
от голода иссохший и вина,
в холодных тапочках спешит с усердьем
к горящему камину у окна,
тогда он, напряжённый как струна,
скрывающий недуг в бессонном взгляде,
из-под халата достаёт тетради,
исписанные текстом дочерна,
и отправляет их трясущейся рукою
на пламя, закипевшее рекою.
И никакие возгласы страданья
не могут заглушить и оборвать
слова уже последнего шептанья:
«Как сладко, милый, умирать».
* * *
Мороз унялся, люди вдруг
зашевелились по привычке,
усердно стягивая с рук
мешающие рукавички.
И только на твоих щеках
прозрачной нитью лёд искрится:
ты плачешь, словно второпях
любить не можешь научиться
* * *
СВЕЧА
Хладнокровны свечи горящие,
свет спокойней луны стократ.
Стены, мученики незрящие,
беспробудно сегодня спят.
Я вхожу в эти стены мглистые –
на лице от свечи слеза.
И меня обжигают льдистые
неживые твои глаза.
ЗВУК
Кто же ходит в эту ночь
по шиферу на крыше?
Кто скребётся там, точь в точь
как скребутся мыши?
Кто стучит на чердаке
по балкам потолочным?
Кто грохочет в сундуке
старом и непрочном?
Кто стремится, как фантом,
укрыть себя от стужи –
и гремит, как кулаком,
по стене снаружи?
Звук неясный, словно сон,
младенца в колыбели.
Может, это смутный стон
раненого? Или
это память о войне,
как бойцу в неволе
будоражит сердце мне
возвращеньем боли?
Или призрачности взмах
беззвёздной ночью этой
навевает в душу страх
мчащейся кометой?
Или зверь из-под земли
желает в тёмной страсти
все сомнения мои
разорвать на части?
Или – или. В темноте
мозги и бред едины.
И догадки – те и те –
у ночи седины.
И, жестоко теребя
мой разум в нервной гонке,
звука нить стремит себя
швом по перепонке.
И, как выскользнув из рук,
дрожащей коркой суши
так довлеет этот звук,
что хоть вырви уши.
Что же делать?.. Мысль молчит,
свой замысел скрывая.
Только ветер тучи мчит,
звёзды проявляя.
Я – один. И ночь едина.
И в руке, как Млечный Путь,
звука бьётся сердцевина –
неразгаданная суть.
ПЕСНЯ МОЯ
Каждый живёт с любимою песней…
Когда он в дороге, когда он молчит,
во время отдыха, в дни болезней
в каждом мелодия сердца звучит.
Все её ощущают душевность...
И если в жизни случается крах,
её целительная напевность
у всех пульсирует на устах.
Живущим легче с любимой песней…
И пусть безымяннее будет она,
неощутимее, бессловесней
или у сердца почти не слышна.
С живущими часто это случается…
Но где же моя? как называется?
Есть. Не забыта. Назвать не боюсь:
песня моя – Беларусь.
Я ВЕСЬ
Неужто небо звёздное милей
земных тюльпанов и лилей?
Оно ли в черноглазой тишине
диктует эти строки мне?
И стоит ли всю жизнь и весь покой
отдать в залог за звёздный рой?..
И если так, то для чего сознанье
моё не ищет в мирозданье
тот уголок, который, словно лоно,
вдали от смерти неуклонной
укрыл бы, нет, упрятал в колыбели
моё сознанье? Неужели
не дорога моим глазам печаль
степных дорог, лесных тропинок,
озёр предутренних цветная шаль
и вихрей вольных поединок?
И что ж, мне очень будет жаль
себя упрятывать в суглинок?..
Я весь предощущением объят,
что жизнь и смерть – сестра и брат,
что нет небес, земли и вдохновенья,
а есть потоки дуновенья
цветов и звёзд, когда мой взгляд
преобразился в листопад.
***
Небесный холст, что звёздами украшен,
мне стал не притягателен, а страшен.
Бывало, я ночами любовался,
как он сияньем серебра переливался.
Как сквозь его таинственное тело
комета прозорливая летела.
И в этой ткани, звёздной и нетленной,
мне слышалось дыхание Вселенной…
Теперь не то. И я на холст небесный
смотрю в растерянности бессловесной.
Я знаю, за его заветной красотою
таится смерть прозрачной пеленою.
Там, в глубине, где звёздные скопленья
свершают без конца столпотворенья,
где сердце галактической спирали,
сжимаясь, расширяется едва ли,
там, в пелене безмолвной и незрячей,
там, в глубине, холодной и горячей,
сокрыта тайна, как в яйце игла,
что вечность тоже чахнет, как зола.
Из цикла "СИТУАЦИИ»
Мечта
Февральский холод и вечер свечный.
Луна на небе. Мерцает Млечный
неиссякаемо-яркий Путь.
Сегодня, завтра... Когда-нибудь
я тоже вырвусь, взлечу, чтоб где-то
зажечь свою полоску света.
Раскрепощение
Как мало я сквозь ночи суесловь
с тобой беседую в дневном сатине
о той житейской въедливой рутине,
что без конца коверкает любовь.
Раскрепощенье от молчанья всё же
придёт ко мне... на смертном ложе.
Судьба
За мною увязался пёс.
Он голоден. Мне это ясно
хотя бы потому, как страстно
он смотрит в спину мне. Мороз
трещит, крепчает и ярится.
Куда свернуть мне, где укрыться?
Календарь
Жизни моей календарь,
листья твои, как встарь,
сыплются без конца.
Где же ты, мой январь,
юности государь?..
В кротких морщинках лица.
Популярность
Ко мне явилась популярность,
она эффектною была;
в её глазах, как благодарность,
лукавость юркая цвела.
С тех пор все ночи напролёт
я вижу бабочки полёт.
МУЗЫКА НЕБЕС
На губной гармошке месяца
я сыграю, чтоб для вас
неба музыка-кудесница
засверкала, как алмаз.
Бубенцовой звёздной нежностью
всколыхну ночную гладь,
чтобы с тайной неизбежностью
в душах ваших зазвучать.
Одиноких туч мелодию
сквозь небесную парчу
в скрипки пламень превращу,
и волшебную рапсодию
перед вами расплещу.
Колокольный звон созвездия,
не убитый темнотой,
как палящая поэзия,
вас насытит теплотой.
Струи розового всполоха,
словно стройный звукоряд,
над дремой земного шороха
вам гитарой зазвенят.
А заря, сестрица младшая
рос, пророчащих восход,
флейтой утра запоёт,
и ночная тьма увядшая
лепестками опадёт.
ЗАЧИН
Играй, баянист, хоть твой голос неровен.
В моей Белоруссии хаты гниют,
и в дремлющей плоти рыхлеющих брёвен
мелодий заброшенных вопли снуют.
Дороги заплаканы до умиленья.
Вчера – не вчера я здесь, кажется, плыл,
сегодня одно хоровое моленье
исчезнувших душ, о которых забыл.
Но ты не забудешь, меха раздувая,
огонь-баянист, о спасенье молить
избы, что во времени словно живая,
в пространстве… – да что тут уже говорить.
Баяна лихого заманчивы речи,
но им не дано в занавески вдохнуть
сияние утра, которое резче,
чем думалось мне, оттенило мой путь.
Стареющих окон глазницы стеклянны.
И страшно войти, и досадно смотреть.
Сквозь приторный запах корней валерьяны
сердечную изморозь не одолеть.
Но ты, дорогой баянист, ни в остуде,
ни в подлой измене не ведай кручин.
В моей Белоруссии хаты, как люди,
а люди – нечаянной песни зачин.
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
Будущее эхом долетает
в мой ещё не выстроенный дом.
Записать его не поспевает
авторучка с золотым пером.
Но рука спешит, спешит куда-то,
ветер памяти её несёт…
Вся дождём изъеденная хата,
наклонившись, упадёт вот-вот.
То ли на печи, на лавке, то ли…
Каждой клеткой впитывая страх:
«Бабушка, а помнишь, там, на поле
крыльев окаянных чёрный взмах?..»
«Тьфу ты, глупый, это ж коршунёнок
наших кур повадился таскать».
И, глазами поводя спросонок:
«Хватит дурью маяться – в кровать!»
Лунный шар неспешно прокатился
по стеклу вздохнувшего окна,
словно бы за ним не притаился,
а расцвёл… Не видно – пелена.
«Бабушка, а расскажи про Бая,
как он шёл, качаясь, по стене
и своим детишкам нёс, играя,
лапти, или что там, на спине».
Смутный вздох. Шматок сухого хлеба
шевельнулся странно на столе.
Огненный цветок взлетает в небо,
опускаясь там, в другом селе.
«Снова эти камни пробудились!
Бабушка, послушай… да не спи.
Посмотри, как ярко осветились
наши годы в жизненной цепи».
«Что ты мелешь. Где тебе Купалье?
Осень на дворе». Зевнула – спать.
Вдруг лиловой вспышкой в зазеркалье
огненный бутон расцвёл опять.
Покружил над озером и плавно
лебедем жемчужным за холмом
опустился и растаял явно,
словно светлый колос под серпом.
Прожитое хлынуло потоком
мимо взора, памяти, в зенит,
рядом с домом, что ещё во многом
не достроен или не обжит.
Что ли, жизнь ценнее стала вдвое?..
Только, ну хотя бы перед сном
не спеши записывать былое
авторучка с золотым пером.
* * *
Предпасхальная ночь. Сновиденье условно.
Выхожу на балкон, чтоб на небо взглянуть.
Тучи застят мерцанье созвездия Овна
и неслышимо дышит Размеченный Путь.
Я безмолвен и слеп – из-под век выскользает
киноварный зрачок яйцевидной луны.
Только разум себя самого осязает
в скорлупе темноты, чьи глазницы черны.
Но и это бессильно замедлить слиянье
неостывших гигантов в утробе небес.
И звезда разливает в бокалы сиянье,
и спускается путникам наперерез.
Из укрытия утро в бордовость вельвета
умирающей ночи бросает приплод.
Это солнце играет на кромке рассвета:
то налево заблещет, то вправо сверкнёт.
И от вербы лучение медленно вьётся...
Засыпаю – и меркнет моя слепота.
И на дне пересохшего ночью колодца
растворяются тучи, луна, темнота.
СЕРЕБРИСТАЯ ОСЕНЬ
Серебристая осень в глаза мои смотрит,
приглашая меня в свой хмельной хоровод,
словно я этот лист, что сорвался с осины
и о землю удариться должен вот-вот.
Но, следя за паденьем листвы, я подумал:
серебристая осень, не надо спешить –
мне ещё не по силам в твоём хороводе
затаённо, уверенно, вечно кружить.
Я не знаю ещё, серебристая осень,
сколько будут меня красотой исцелять
эти строгие линии ив наклонённых,
этих вод скоротечная вольная гладь.
Не насытился я светозарной грозою,
ароматом целебным былинных полей...
Но по-прежнему смотрит в глаза мои осень,
серебристая осень жизни моей.
СОЗВУЧИЕ
От моего сердца к твоему сердцу
протянута одна-единственная струна,
когда она трепещет, мы ощущаем
созвучие сердцебиений.
И нас обжигает одинаковая жажда:
услышать не только сознанием,
но и почувствовать плотью
одну-единственную мелодию: ля-ле-ля-лю-лю.
* * *