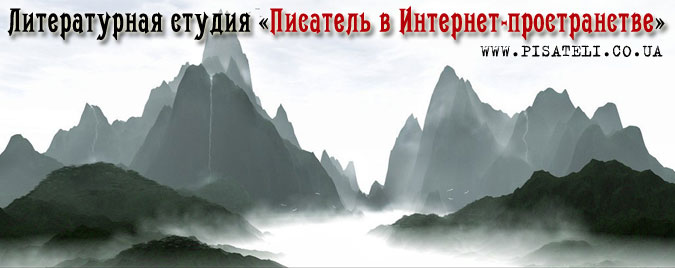Поэзия
- Подробности
- Категория: Игорь Ерофеев
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 2059
ДУША
Пролитой ночью
тише мыша
проникла ко мне чья-то душа.
Лежу, едва дыша, вспугнуть боюсь,
на сердце своё гулкое злюсь.
А душа пригрелась, засветилась в темноте,
склонной к пустоте…
Испугался, признаюсь,
не шевелиться стараюсь:
ещё бы, такое чудо –
душа чужая! Откуда?!
– Кто ж такая? –
спросил.
– Да с Алтая –
всю ночь леший где-то носил, –
бабы Нюры дух.
Дожила до семидесяти двух,
всю жизнь, считай, трудилась,
болезнями заржавела,
совсем устала, уморилась, –
вчера и отошла…
Да вот напасть – заблудилась.
Сначала в трубу печную забилась,
затем ветрами
по-над реками понесло –
чуть было не порешили веслом…
До неба-то, милок, далече?
У меня там с Господом встреча.
– Куда ему, небу-то, деться?
Давай лучше к печке ближе – греться.
Летать же умеешь –
на суд Божий всегда успеешь.
Как в теле-то жилось?
Рассказала б, душа…
– Ох, сынок, и длинная это история.
Если хочешь – слушай,
как душа изливает душу…
Хороша я была в девках:
первая в танцах и припевках,
отбоя не было от парней –
да вот всем отказала,
пока не завлёк меня Андрей.
Ох и пригож же он был, широкоплеч!
На седьмом небе была после с ним встреч…
На седьмом месяце и оставил брюхатую:
забрали его на войну треклятую.
Помню, как прощался со мною и хатою, –
прижался ухом к животу:
«Ты мне мальца, – говорит, – сохрани.
И чтобы никуда,
пока воюю, ни-ни.
Приду –
проверю!
Ты мне веришь?» –
«Верю!..»
Сына когда родила – бумагу в дом доставили,
что мужа моего посмертно
к ордену представили…
В селе нашем одни старики да бабы остались:
нам тогда все беды бедные, наверно, достались.
Намаялась я потом с ребёнком –
коза, не поверишь, спасла:
её молоком
Сашку своего поила с козлёнком.
Выжили кое-как.
А дальше немец пришёл, раз его так!
Услали нас, женщин, в Германию эшелоном –
помню, бабы ревели, а офицер их главный
лыбился и пахло от него одеколоном…
Отобрали сразу в лагере детей от нас –
никогда не забыть мне Сашкиных глаз!
Вцепилась я мёртво в солдата,
что сына тащил куда-то, –
побили меня прикладами, бросили в яму,
на трупы прямо…
Ночью из оврага выползла:
темень, холод собачий.
Слышу – стонет кто-то рядом, плачет.
Грешна была: забоялась, ушла…
Еле дорогу нашла.
Тело всё битое,
сердце горем разбитое,
а кругом – ни огонька, ни здания.
Куда идти? Везде – Германия…
На хутор какой-то вышла,
в калитку сунулась,
а из дома – выстрел.
Вот, думаю, и смерть моя пришла –
или я её нашла?
…Очнулась в кровати: тишина, покой –
вот он, рай, видимо, какой, –
а сама не могу пошевелить рукой.
Потом оказалось, что я у немки –
фрау Ремке:
она мне такую постель стелила, –
а чуть было с ружья не подстрелила.
С чего бы ей жалко меня было?
Молилась за меня, с ложки кормила.
Столько годов прошло, а не пойму:
зачем выходила, почему?..
А ходить начала –
хозяйство её повела,
по-немецки говорить училась.
Вроде бы всё обошлось,
а с тоски раз чуть не удавилась…
Пока живой была,
эта фрау мне часто снилась, –
видно, была она мне
и Божья кара, и милость.
Бывало, прятала меня в подвале
от военных своих:
расстрелять же могли двоих.
Привыкла к ней, как к сестре старшей,
а всё равно страшно –
что делать-то дальше?
Вечерами со свечами долго сидели,
вязали и песни тихонько пели –
нравились ей наши, народные:
говорила, что мелодии их – из души, природные.
Наверно, двоим было легче горе переживать:
она хоть и немецкая, но всё-таки мать.
Опять же, ревели –
сынов своих жалели
и мужей, которых войной убило, –
давно это было…
Однажды утром ушла я с хутора – не простилась,
к беженцам на дороге прибилась.
Наши уже в Пруссии были,
самолёты города бомбили.
Один раз под снаряды свои же попала –
чуть было не пропала.
Скольких людей тогда смерть пометила!..
Под Кёнигсбергом ихним
я Победу и встретила.
Но недолго радовалась –
неважно всё складывалось:
в женский лагерь для враждебных элементов
отвезли меня без документов.
Согнали нас тогда в бараки.
Кругом проволока колючая, вышки, собаки.
С голоду пухли, шинели шили,
собирали на заводе краны.
Там в бытовке и снасиловал меня сержант охраны, –
слава богу, не пристрелил,
а только, сволочь, сильно побил…
Вот, милок, судьба какая:
в двадцать пять
порченая и почти седая…
– Неужели ж, душа, счастья не видела?
Может, Бога нашего чем обидела?
– Чем я могла его обидеть,
коль не дано его увидеть?
Молиться вот не забывала,
а счастья женского – как не бывало.
Долго так жила,
всё мужчину своего ждала.
Вернулась на родину, работала в колхозе дояркой,
на танцы ходила, красилась помадой яркой.
Никто не брал под венец –
всё, думала, конец:
кому такая нужна?..
Правда, приходил ко мне один:
ты, говорил, моя княжна, –
когда спал со мной, –
а утром поест и уйдёт к жене домой…
После тридцати только и родила сыночка,
хотя думала, будет дочка.
Но это – Богово дело;
главное женщине – чтобы ребёнка хотела
от него одного – родного, любимого,
ни с кем не делимого.
Я такого всё же нашла –
и снова звезда надежды взошла,
когда уже ни на что не надеялась.
А он пришёл – и всё в моей жизни склеилось:
дом построили, сына растили…
Но в пятьдесят втором суженого моего судили
как врага народа –
увезли машиной чёрной прямо с огорода, –
он у меня офицером был,
служил раньше при штабе в Польше.
Я его не видела больше…
…Замолчала душа. Плачет, смотрю.
Что с ней делать – не знаю.
Сердце заболело. Терплю.
Наконец, успокоилась,
к печке ближе устроилась.
– Что дальше-то было? – спрашиваю.
– Дальше – не легче. На стройке трудилась,
с лесов один раз вниз разбилась.
Сапоги и гимнастёрки мужа донашивала:
всё на сыночка шло – Васеньку любимого нашего.
В Рязани курсантом учился,
там и женился.
Как и отец, стал командиром,
должность в армии получил с мундиром.
Приезжал ко мне в село иногда
(я уже почками болела тогда),
с супружницей своей интересной гостил –
дров на зиму нарубит, траву летом косил.
Две дочери у него были крошки:
набедокурят немножко,
а он их на колени к себе посадит,
журит легонько,
а сам головки светлые гладит.
У меня сердце заходилось, на них глядя:
жить на земле стоит хотя бы этого ради…
…Убили сына где-то на Кавказе –
он был тогда в спецназе,
командовал ротой.
Вписали его имя в книгу с позолотой.
За Васенькиным орденом я ездила в столицу –
вручили мне его ответственные лица.
От сельсовета пылесос ещё достался,
да где-то через месяц вот сломался.
С невесткой, внучками я пожила в Рязани,
но там мы без конца с ней –
с мокрыми глазами,
страдала каждая по Васеньке по-своему,
когда ходили на могилу к воину…
С тех пор и стала жизнь моя пустой,
а смерть – совсем не страшной, если не простой.
Давно готовилась я в небо уходить –
что с этим светом было мне делить?
Вещички с вечера из шкафа собрала,
сложила с деньгами на стуле у стола,
курей с цыплятами надолго накормила,
цветною шалью зеркало накрыла,
котлет в кастрюлю наготовила к помину
да облигации снесла все деду Климу.
С утра оделась я в рубашку белую –
в последний раз, я знала, это делаю –
и в чистую в обед легла кровать,
чтоб сердце приготовить умирать.
Здесь главное – настроиться,
оно и остановится.
Со мною это быстро получилось:
наверно, хорошо уйти просилась, –
теперь душа я только, без крови и плоти…
Легко-то как, когда во сне умрёте!
Без сердца только чудно, непривычно
и без защиты Бога необычно…
Ну, ладно, напоследок пообщалась –
пора, пожалуй, извини: помчалась…
И опоздала к Господу, поди…
– Да брось, душа, расслабься, посиди
и оставайся – у меня не тесно:
душа живая рядом – интересно…
– Спасибочки, милок, я всё же полечу:
с сынами я скорей повстретиться хочу…
Оно и лучше, может, там, на небесах,
чем маяться больною в телесах:
своё я тело точно за года сносила…
И что меня нелёгкая везде носила?
А то хватило б лет ещё на семь,
но, видно, силами я выдохлась совсем.
И что мне делать здесь, на этом свете,
когда поумерли мои родные дети?
Была семья счастливая когда-то,
а что теперь –
пустая настежь хата?..
Хватило мне, вдовой,
бед вдоволь…
…Она исчезла с этими словами –
своими видел я, не вру, глазами.
Мы душами когда-то тоже станем,
живого Бога, может быть, застанем,
и там, среди заоблачных морей,
мы встретим и отцов и матерей.
ДОМ НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ
Кстати, дом ещё не старый,
пусть родился до войны:
двухэтажный, черепичный,
с палисадом у стены,
с вопросительными ртами
трёх подъездов без дверей,
с цифрой «27» жестяной
под глазами фонарей...
Долго в детстве я снежками
перебросить дом не мог,
и казался мне огромным
наш с перилами порог,
и казался мне высоким
придорожных клёнов строй
и тяжёлыми ступени
на второй этаж, домой.
Ничего не изменилось:
тот же стол, где под вино
мужики со всей округи
забивают в домино.
Дом на улице Советской –
десять окон, два крыльца.
Не лишили капремонты
дома скромного лица.
Здесь на велике кататься
научил меня мой друг,
здесь я первый раз подрался
за обиженных подруг,
здесь с девчонкой целоваться
бегал прятался в подвал…
Двор меня готовил к жизни,
право выбора давал.
А недавно ностальгия
к дому детства привела.
Там, где часто собирались,
дров полéнница легла.
Вместо грушевого сада
два сарая стали тут.
Кроме двух семей последних,
все здесь новые живут.
Поразъехались по свету,
кто-то умер, кто-то сел.
Дом на улице Советской
безнадёжно обрусел…
Засиделся на скамейке –
час прошёл, за ним другой.
Голос мамы показался:
«Ночь уже, сынок, домой!..»
Только восемь лет, как мама
в этом мире не живёт…
Дом на улице Советской
и меня переживёт.
РОЖДЕСТВО
Смиренен мир в святое Рождество –
нам сходит всё в такое торжество...
От искр серебра рябит в глазах,
бельё клубится свежее в тазах.
Одеты в снег деревья и столбы,
дым катится из утренней трубы,
и вздрагивают медью облака,
укрылась льдом стеклянная река.
Застыли мягкие обложки простыней,
скрипит зима под лезвием саней,
мальчишки белые под горку кувырком,
чернеет шапка, сбитая снежком.
Собака опустевшая идёт –
её и в Рождество никто не ждёт, –
желтеет снег под тонким фонарём,
остужен свет холодным январём.
Раскисла соль на вязкой мостовой,
порядочный скучает постовой –
следит он за движением машин, –
висит в витрине праздничный кувшин.
Молчит под снегом жухлая трава,
шарфами душим чистые слова,
какой-то пьяный дышит табаком,
грозит кому-то смелым кулаком.
У снежной бабы в угольных глазах
застыли лица плавные в слезах,
калина склёванная стонет под ногами,
кружат снежин пуховых оригами.
Скрипит стекло морозное в домах,
тепло находим в лёгкости рюмах…
От времени большого колеса
моей отстала жизни полоса…
Смиренен мир в святое Рождество –
нам сходит всё в такое торжество...
Чтоб поостыли люди от любви,
Бог отодвинул Солнце от Земли.
* * *
Когда ты один,
и ветер – ненастье,
и сон – наказанье,
и дождик – несчастье,
и сутки разобраны на минуты,
и зубья у вилки не так загнуты,
и соседи напротив вразнос шумливы,
и картошка «не лезет» без подливы,
и шатается кресло, ободранное котом,
и всё откладывается на потом…
Ты снова один –
и звонок что сирена,
и мыло не мылит,
и холод – измена,
и всё в телевизоре только про это,
и в зале обои постылого цвета,
и лампа такая, что лучше без света,
и лжива центральная эта газета,
и копится мусор на кухне в пакете,
и лишь за себя ты сегодня в ответе…
Неделю один,
а мне кажется – годы,
и нет у природы хорошей погоды,
и где-то моя затерялась дорога,
прошу избавленья у должного Бога –
и всё раздражает, когда он не слышит,
и кто-то мне в спину унылую дышит,
и выпить фактически не с кем на пару,
и дни выходные подобны кошмару…
Когда я один –
и слова-то похожи,
и эти я раньше использовал тоже…
Один и умру –
дело личное всё же, –
Бог тоже один,
но вечен, похоже…
* * *
Город твердокаменный
с колеёй окраинной,
с клёнов каравеллами,
с полосами белыми,
с обликом обветренным,
кое-где с симметрией,
вроде одомашненный,
с трепетными башнями,
войнами подкошенный,
с площадью поношенной,
на глазах стареющий,
крышами болеющий,
с парками увядшими,
с реками уставшими,
кажущийся маленьким,
с замковой завалинкой,
под людей подлаженный,
улицы не глажены,
котлованов кратеры,
труб иллюминаторы,
кирха – Бога пленница,
старых стен поленница…
Есть и мне пристанище
в каменном стаканище,
в улицу вколоченном
с кирпичом просроченным:
в тесноте мансардовой
жизнью жил надсадливой,
с городом похожею,
как в домах прихожие…
Рядом и положат –
кто-то вспомнит, может…
Что бы ты ни значил –
город не заплачет…
КВАДРАТ
Как-то раз на мой день рождения
друг из цеха для многостаночников
подарил репродукцию в рамочке –
то «Квадрат» господина Малевича.
Очень, я вам скажу, любопытное
оказалось сие приношение
для меня – человека стороннего
мировому искусству могучему.
Провисела картинка на гвоздике
двое суток без всякого действия,
до тех пор пока кот наш зашуганный
не завыл у подножья творения.
Стал и я наблюдать ненормальное
в помещенье с квадратным художеством:
то пивная бутылка расколется,
то все пуговки разом отвалятся…
А с неделю назад у Малевича
в его правильном произведении
усмотрел я усы королевича,
явно мне до того неизвестного.
Очень даже усищи шикарные!
Больше, чем у Богдана Хмельницкого
или даже комдива Будённого,
революцией с саблей рождённого…
Вот же, право, художник талантливый,
раз в каком-то квадрате упрятывал
лицевое мужское достоинство,
да с рыжинкою и кучерявостью!..
– Посмотри на усы, Галь, огромные! –
тыча пальцем неловким в творение,
обратился к жене с восхищением,
отдыхающей от настроения.
А она, вроде женщина умная,
вдруг послала меня раздражительно
в направление общеизвестное
с непривычной словесной кудрявостью…
Через день мне из чрева картинного
немужской чей-то голос послышался,
с очень южным акцентом и йолями, –
подпевал я, пока не запыхался.
А приятель мой верный и радостный,
с кем мы сели за стол под картиною,
мне сказал, что поёт из полотнища
Караклаич-певица как будто бы…
Как-то раз у «Квадрата» настенного
простоял я в глубоком раздумии,
позабыв о футболе с бельгийцами,
подходя к раздвоению личности.
Как же мог этот киевский парубок
до квадратной картины додуматься –
и теперь в этой признанной классике
каждый видит особенно личное?..
На двадцатой минуте стояния
я увидел вдруг трубы фабричные,
баррикады, и В. Маяковского,
и матросов, шагающих вовремя,
в бескозырках с винтовками стильными.
Я спросил их: «Откуда, товарищи?»
Но колонной бойцы справедливости
с песней скрылись во тьму беспросветную,
чтоб бороться с враждебными силами.
А однажды под вечер предпраздничный
в нашу спальню проследовал скромненько
сам художник Малевич с палитрою
и бутылкой «Столичной» початою.
Сел на стульчик, от шарфа избавился
и с вопросом ко мне обращается:
– Ну и что ты в картинку уставился?
Ты бы лучше жену приголубливал,
чем в «Квадрате» объекты высматривать, –
заявил он с ехидной усмешкою, –
всё равно ничего в нём не выяснишь:
я всего-то закрашивал лишнее,
трафарет для удобности вырезав, –
а теперь началось сумасшествие
и музейное столпотворение…
– Что ж ты, голубь, – воскликнул я с умыслом, –
человечество ввёл в заблуждение?!
Даже я в этой угольной классике
изыскал краснофлотцев движение.
– Краснофлотцев и бронепоезды
наблюдали при НЭПе в Монголии, –
пояснил Казимир Северинович,
запивая томатным «Столичную». –
Вот вчера мне звонили из Мексики,
по-испански кричали на проводе,
что «Квадрат» излучил герменевтику,
плюс со всеми её производными.
Я, признаюсь, не знаю значения
слова этого с грозной фонетикой,
только раз уж и это увидели,
значит, я начертил что-то мощное, –
вот такая, товарищ, история.
Кто бы думал, что я геометрией
приведу континенты к безумию,
что Веласкесы вместе с ван Гогами
оказались в плену моей графики?..
Под вопросы о конгениальности
из бутыли допили последнее,
я сходил за второй с удовольствием, –
не мешая супруге безрадостной,
на балконе грешили с напитками.
Посоветовал мне восхитительный
обходиться без слов в стихотворчестве
и чертить просто чёрные полосы:
пусть читатель в них смысл додумает…
Лишь к обеду проснулся разобранным,
без художника и без нательного, –
сообщила жена мне разборчиво,
что она обо мне всуе думает.
Больше мне Казимир не является:
мы картинку в гараж перевесили,
где медведи товарища Шишкина
развлекают «Москвич» мой потрёпанный.
Только всё же «Квадраты» мерещатся –
жизнь похожая стала на шахматы,
чернотою полна Севериныча,
с краснофлотцами, в спальне стоящими,
и застрявшим в дверях бронепоездом…
ПТИЦА
Ночь. Дорога. Встречные фонари.
Я в автобусе сижу у двери.
Кто-то уже спит.
Сосед слева пьёт пиво «Пит».
В салоне нет света.
Душно. Лето…
Женщина вошла на остановке,
села рядом неловко.
Молчала, пока автобус не поехал.
– А вам нравится Эдита Пьеха?
– Нет, – отвечаю.
– Мне тоже, – вздыхает.
Голос у неё чистый, в тишине тает.
– Я вам не мешаю?
– Ничуть,
всё равно не могу уснуть…
– Считайте пирамиды,
поможет: в их тяжести – снов флюиды…
В кресле откинулась, вздохнула,
серьга в темноте блеснула.
Затихла – показалось, уснула...
Смотрю на неё украдкой:
красива, профиль благородный,
волос густых укладка,
в свете луны белая кисть пальцев ломких,
свежий запах духов тонких…
– Как думаете, сколько мне лет? –
спросила, не открывая глаз.
– Женщины так спрашивали меня не раз.
– И всё же?
Я как бы женщина тоже.
– Время вас щадит
и за судьбою следит.
– Дипломатично...
Впрочем, для мужчин лгать типично.
– Почему же так строго?
– Извините, я посплю немного…
Моя же дремота куда-то
разом пропала. Стало легко.
Жалею, что ехать недалеко.
Волнение странное
принял как данное.
– Люблю ночь и дорогу:
во сне мы все ближе к Богу… –
заговорила она вновь. –
Наверное, ещё ближе – любовь?..
Возражаю:
– Дорога – это всегда опасно.
– Не опаснее, чем дома, когда чувство угасло.
– Всё когда-то угасает…
– Но не всех бросают! –
сказала резко. Отвернулась,
в окно чёрное уткнулась.
Чувствую – плачет.
Неловкая обстановка…
Как раз остановка,
покурить вышел,
водитель мне что-то сказал –
не слышал.
На улице свежо, прохладно.
«Чего волнуюсь? Кто она мне?
Никто – и ладно…»
Вернулся. Ждёт, вижу,
подвинулась ближе.
– Простите. Наболело…
Я вам, похоже, надоела?
– Совсем нет…
– А я вот уехала без денег на обратный билет… –
улыбнулась невесело.
Опять задремала – голова свесилась.
Почему-то смотреть на неё хочется,
в сердце желание точится.
А автобус дальше везёт в ночь, мотором урчит,
где-то в салоне сзади женщина ворчит…
Чувства странные.
В голову полезли мысли пространные:
о доме, что не построил,
о сыне, которого против себя настроил
из-за мелочей, –
теперь вот живу один, ничей.
На смертном одре вдруг себя представил –
страшно стало: что в мир этот оставил?..
К матери вот еду за последние три года
первый раз –
не мог в письме черкнуть пару фраз,
как бы занятой,
а сам то с этой поживу, то с той…
Дотянул, пока не позвонили,
что чуть маму не схоронили…
За окном что-то похожее на рассвет.
Сосед слева взялся за второй чипсов пакет.
Скоро выходить –
решил попутчицу не будить.
Она вновь заговорила сама
(голос её сводит с ума):
– На всякий случай –
меня Александрой зовут, реже Шурой…
Не посчитайте дурой.
Просто я устала:
тоска к сердцу пристала –
не оторвать,
с прошлым никак не могу порвать,
а новое ещё не настроилось,
сомнение в душе пристроилось, –
такие вот удила…
Повернулась вдруг ко мне, за руку взяла:
– А вы способны начать жизнь с чистого листа?
Например, сойти сейчас со мной в темноту,
в эти незнакомые места?
Не важно, что мы не знаем друг друга, –
я бываю порой хорошая подруга…
Опешил, не знаю, что сказать.
– Вообще-то, места мне знакомы –
здесь живёт моя мать…
– Ну и что?! Проедем дальше…
от этой фальши… –
сказала она горячо,
развернув меня за плечо. –
Прекратите спать!
Во сне душа перестаёт дышать!
Надо жить там, где страсти пылают огнём,
где звёзды видны не только ночью – и днём,
там, где лазурное море и вечное лето, –
в ста шагах от начала света…
Молчу, как-то стало не по себе.
– Не смотрите на меня так!
Вы мужчина или тюфяк?
Не верите, что есть мир,
где ангелов больше, чем аистов,
где счастье и равенство?
Можете не отвечать –
таким, как вы, лучше молчать!
А я вот всё равно буду летать!
Я – птица!
Пусть кругом эти постные лица –
хочу быть там, где запах полыни
и небо, придуманное Феллини…
Идёмте со мной! Нам надо быть с ними!..
Она наклонилась надо мной, перешла на шёпот:
– А вы не знаете – ездила Пьеха в Сопот?
– Не знаю, – бормочу.
Сумасшедшая, думаю, –
а сам волосы трогать её хочу…
Отстранилась, осталась стоять в проходе,
потеряв ко мне интерес.
Чувствую себя глупо –
уставился на её юбки разрез…
Туман такой, что дорога как будто
закрыта сукном.
Проявились какие-то дома за окном.
Автобус медленно ползёт. Сижу, себя жалею:
всю жизнь не везёт, – не дай бог,
к матери не успею…
Транспорт наш вдруг тормозит резко,
гремит железка,
сосед слева уронил бутылку пива,
по проходу рассыпались яблоки и сливы…
В салон вбежал мужчина худой,
в очках, с аккуратной бородкой, седой.
– Саша, слава Богу, ты здесь!
Я извёлся весь!
На такси тебя догнал,
как только узнал…
Что опять произошло?
Что на тебя нашло?
Ты мне очень нужна,
без тебя дом – пустая чаша.
Я люблю тебя. Пойдём домой, Саша!..
Безучастная, она пошла за ним покорно,
наступая на сливы,
а автобус тронулся дальше,
пропуская БМВ и «нивы»…
Настроения нет.
Обвиняю в своих грехах весь белый свет.
Прошу остановить автобус. Выхожу.
Остаюсь один на шоссе.
На восход солнца гляжу.
От холода утреннего дрожу.
Впереди дорога натруженная лежит.
Места знакомые…
Надо жить!
* * *
Белая бессонница – чёрная бездонница,
стропы циферблатные спутались в ночи.
Сердца неуёмного беспокоит звонница,
и душа встревоженная тоже не молчит.
Всё-то мне не нравится: город жестью плавится,
морщатся под крышами скучные дома.
Страсть моя – подельница на двоих не делится, –
и когда ж сойдёмся мы от любви с ума?
Жжётся эпизодица – наших дней угодница,
счастье затеряется в шорохе минут…
Отпусти, истерица, с Богом души сверятся –
и тогда сомнения нас не разминут.
* * *
Мы знаем всё о дорогах,
мы делаем их ровней
и валим под них деревья,
рвём тросом ремни корней.
Дороги хранят пространство,
впиваются в города.
По обочинам спят деревья
и серебряная вода.
Любая дорога – скорость,
любая – быстрее нас.
Развязки скрипичный узел,
светофора цепной анфас…
Мы – стежки в полотне дороги
с распалительною чертой,
где луна над дорожным миром
стынет мертвенною пятой.
Из-под плинтуса горизонта
вытекают дорог ручьи.
Сколько было путей пропащих, –
да они и сейчас ничьи.
Мы считали, что всё едино
и дорога на всех одна, –
оказалась узкоколейной
и в потёмках не всем видна.
Мы привыкли к своим дорогам,
и пристроились к ним в домах,
и расплющили тропы в тракты,
раз такой у страны размах.
Человека судьба – мерило
у дороги и у войны…
Мы не видим маршрут движенья
из-за чьей-то большой спины.
В королевстве кривых дороги
заменяют порой столы.
Те, кому на дорогах тесно,
заказали себе стволы.
И теряемся мы в переходах,
костью в горле – тупик «Норд-Ост»…
Все дороги ведут к храму –
с поворотами на погост.
* * *
Нам чужие страны
кажутся так странны:
хлеб какой-то не такой,
кто ж так водку пьёт?
Женщины, смотри, какие:
что-то непонятное, –
кто-то любит и таких,
их же кто-то ждёт.
Слишком уж размеренна
жизнь их иностранная:
не кричат, не носятся,
нет очередей.
Как-то всё неправильно,
не по-человечески:
слишком беспокоятся
за права людей.
Раз такие умные –
так сидите в офисах
да в коттеджах с розами, –
вам-то что до нас?
Мы и сами справимся
с нашими баранами,
угрожать захочется –
перекроем газ.
С нашей колоколенки
далеко всё видится:
край их напомаженный
весь как на духу.
Нам бы волю дали
да серпы и молоты –
вот бы надавали им, –
знают наверху.
Вот у нас на родине
столько интересного:
разжились заборами –
по двору и кол.
Лишь своё нам нравится,
пусть и колченогое, –
не нужны нам ваши
виски с кока-кол.
Хорошо, конечно,
в Швециях-Германиях:
всё для всех имеется,
чистота, уют.
Только вот безжизненно
и без настроения –
за столами в праздники
песен не поют.
Что там может нравиться?
Их дороги ровные?
Дураков там родственных
больше, чем машин.
Лучше мы с бутылочкой
посидим на кухоньке –
и проблемы Родины
в лёгкую решим!
ТИШИНА
День снова умер. Воздух почернел.
Перины взбиты белым ожиданьем.
И диск Луны в окне окоченел,
наполнив ночь холодным ожиданьем.
Худой фонарь. Протяжные машины.
Мерцает сталь троллейбусной иглы.
За тлеющею шторой крепдешина
дрожат домов озябшие углы.
Хранится снег на проводах и крышах.
Спешит патруль в казённое тепло.
Хрустит земля, льдом выровнены ниши,
и зимний шар стеклом заволокло.
Рекламы куб, насаженный на рею,
застывшим удовольствием скрипит.
Расшита звёздами небесная ливрея,
что дальним светом города слепит.
Мы – за стеклом. Довольствуемся малым…
И вновь поймём причину вышины,
когда ко мне нырнёшь под одеяло,
чтоб я тебя согрел от тишины.
* * *
Стены холодного цвета,
медленный фон дорог.
Изморозь нового света,
дом до трубы продрог.
Грустные лают собаки,
ломкое бьёт бельё.
Снега глубокие знаки,
скользких столбов цевьё.
Всё ли зимою в белом?
Белая ли зима?
Стынет покорным телом
смёрзшаяся страна.
Белее зимой горячка,
зависть зимой белей,
с белым лицом морячка
весточки ждёт с морей,
белые спят невесты,
белая вдоль тюрьма,
белому мало места,
в белом сойдёшь с ума,
белые стёрты пятна,
белый искрит мороз…
Кто-то ступает смелый
в белом венце из роз…
Чистые ждут берёзы.
Частые жгут огни.
Белые электровозы
тянут вагонов дни.
Выгнуты белым реки,
снега сечёт крупа.
По-чёрному не устали
белую пить пока.
Крестные вереницы
в белую врыты твердь.
Будет опять глумиться
белая с виду смерть.
Белых берёз халаты,
белых лесов холмы…
В белом лежат солдаты,
которых убили мы.
* * *
Витрина чахнет фотоателье:
пожухлая реклама Монпелье,
улыбок штучных сохнет вереница,
остывших взглядов матовые лица.
За дверью – очередь в ущелье коридора,
слов ожидают слуги термидора:
кому-то нужен фарс, кому-то – профиль…
Серебряный бессилен Мефистофель.
Нас делают беспомощными линзы,
пускают по воде венками тризны,
нарежут жизнь на чёрные квадраты,
зависящую от граффити даты.
Замру и я в застигнутом пространстве,
став жертвою оптического транса.
Застынет солнце в кроне кипариса,
застынет бесконечность парадиза.
Застывший мир, конечно, легче резать,
и времени не всем удобна резвость.
Мгновенье жизни умирает в фото –
сейчас меня убьёт за шторой кто-то…
* * *
Она спит на моих руках,
улыбаясь кому-то во сне.
Мы летим с нею к облакам
на качающейся весне.
Под нами плывут огни,
вылущенные из колб,
и поднятый на крыло
Александрийский столп…
Тени скатятся по стеклу,
и замрёт в темноте окно.
Нас в безмолвие унесло
за небесное волокно...
За пределами слов любовь –
она же рождает слова.
Кто-то знает их наизусть,
я же – буквы, и то едва…
* * *
Она ушла…
Сказала, что устала,
что удивляться жизни перестала,
и что любовь истлела между нами,
и что она теперь уходит к маме…
…И хорошо, что мне не родила,
иначе поувязла бы в делах,
и что я дал бы нашему ребёнку,
когда сровнял всех под одну гребёнку?..
…Бледнела и, срываясь, повторяла,
что самой-самой для меня не стала,
что женщиной не чувствует со мною,
венчаться зря ходила к аналою
и что я загубил её года -
лжецом и эгоистом был всегда, -
что никогда её не понимал,
что ревностью тягучей донимал,
и ничего вокруг не замечал,
и на неё беспочвенно кричал,
и кем-то был ещё, и с кем-то был опять,
и что из-за меня слегла с болезнью мать,
и что не знает, что во мне нашла,
что стороною жизнь её прошла…
- Прощай…
Будь счастлив…
Я ушла…
…Ушла
и погасила свет на кухне, где года
из безнадежно сломанного крана,
как из надтреснутого донышка стакана,
сочилась бесконечная вода…
…Ушла
и ключ оставила на полке,
где до сих пор лежат её заколки
и воткнутые в бархатку иголки,
вечерний крем, засохший навсегда…
Она ушла…
И оборвались двери,
и все надежды разом устарели,
и небо надо мною опустело,
и на душе моей повисло тело,
и как-то всё поникло, почернело,
и силуэт мой очертили мелом,
и в окнах тусклых задохнулся свет,
и стал мне саваном диванный плед…
Она ушла…
И всё меня забыло,
яичница в сковороде остыла,
а за окном всё тот же двор унылый,
унылый серый дождь постылый,
унылые качели и собаки,
унылые песочницы и баки,
унылый свет расплющенной луны,
унылые отвесности стены…
Она ушла…
И всё ушло за нею,
ушли под землю горы Пиренеи,
ушли морские рыбы на глубины,
исчезла целостность без середины,
погасли свечи, маяки, софиты,
остановились войны: все убиты…
Она ушла…
И замолчали птицы,
застыли ветры и погасли лица…
Исчезло всё: машины и столицы,
исчезли ландыши, фиалки, медуницы,
слова пропали, буквы со страницы,
солёные моря окаменели,
солдаты без атаки онемели,
пропал мой пульс, и потерялось имя,
исчезло всё живущее поныне,
исчезли языки, бумага, береста,
исчез Создатель с тёмного креста…
Зато проснулась боль - соперница огня -
и кто-то исполняющий меня…
Проснулся дьявол, что следил за мною,
проснулась смерть слепая за спиною,
с блестящею косою полосою…
Она ушла,
надев в купе прихожей
со стёршейся набойкой сапоги,
Она ушла,
оставив приговором
в луче дороги быстрые шаги…