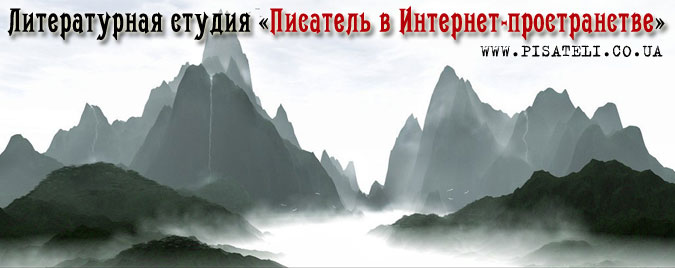Пылинки Времени. Четвертая часть
- Подробности
- Категория: Борис Панкин
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 1602

Начало:
http://www.pisateli.co.ua/index.php/nashi-avtory/190-boris-pankin/789-pylinki-vremeni
http://www.pisateli.co.ua/index.php/nashi-avtory/190-boris-pankin/808-pylinki-vremeni-prodolzhenie
http://www.pisateli.co.ua/index.php/nashi-avtory/190-boris-pankin/835-pylinki-vremeni-tretya-chast
В самом начале 80-х в живковской еще Софии, которая была первой заграничной столицей, где довелось побывать аж в 1956 году, проходила международная писательская конференция. Выступления гостей и хозяев вращались в основном вокруг вопросов войны и мира. Собственно, только эта тема, единственно рекомендованная писателям из соцлагеря в общении с их западными коллегами, и числилась в повестке дня. Чего, казалось бы, ждать от такого форума?
И наверное, тот факт, что почти ничего из речений моих соотечественников не сохранилось в Тетрадях, говорит сам за себя.
Робер Андре (Франция):
— Мы ненавидим войну, но когда она уходит надолго, испытываем нечто вроде ностальгии по ней.
Гости с Запада не стеснялись критиковать политику и политиков своих стран:
— Мир без правды при любом строе превращается в пустоту.
Особенно доставалось НАТО.
Элтон Фокс (США):
— Я не только писатель, но еще и художник. Меня пригласили на подводную лодку с «Поларисами», чтобы я создал юбилейное полотно. Я не смог ничего создать о судне с такой отвратительной целью. Но я увидел, как Бог и черт работают вместе. Я сказал самому себе: «Если этого можно достичь при отвратительной цели, то почему бы не соединить их ради благородной цели?» И об этом я написал свою картину. Я был уверен, что ее даже не примут на выставку, но мне дали первую премию в 1969 году.
Исландский писатель рассказал о девушке, своей сооте чественнице, которая уехала из родных своих мест, узнав, что там будут проводиться маневры НАТО. И написала стихотворение, в котором обращалась к природе с призывом предотвратить это кощунство. Она напечатала это стихо творение в газете, и в канун маневров разразилась страшная буря.
Добрых четверть века прошло с тех пор, как были услышаны и перенесены в Тетради эти строки. На территории восточноевропейских стран, принадлежавших некогда успешно распущенному Варшавскому договору, Североатлантический военный блок из Серого Волка превратился чуть ли не в Красную Шапочку. Границы противостояния передвинулись далеко на восток и все продолжают сдвигаться… В глазах новой центральноевропейской элиты, которая на удивление быстро поменяла одного «большого брата» на другого, принадлежность к НАТО выглядит как своего рода награда за примерное поведение, знак качества.
На той конференции в Софии писатели из социалистических стран следовали логике Сталина из известного анекдота о его беседе с Черчиллем о свободе слова. Черчилль убеждал генералиссимуса, что в его стране полная демократия и что, например, любой может выйти на Трафальгарский сквер или появиться у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и кричать: «Черчилль дурак, Черчилль дурак!» — и никто ему ничего не сделает.
— У нас, — любезно парировал Иосиф Виссарионович, — тоже полная свобода и каждый тоже может прийти на Красную площадь и кричать: «Черчилль дурак, Черчилль дурак», и ему тоже никто ничего не сделает.
Болгарин Богумил Райнов восторгался на конференции Фолкнером, который, получив Нобелевскую премию, отклонил приглашение в Белый дом на ланч со словами: «Я слишком занят, чтобы позволить себе из-за двух часов застолья проделать путь в две тысячи миль для встречи с незнакомым человеком».
— Общество не любит писателей, — нащупывал точки соприкосновения голландец, — особенно тех, которые наносят ему раны своими книгами. Чем стабильней общество, тем сильнее в нем духовный гнет. Оно сажает писателя в тюрьму — либо в настоящую, либо в богатый позолоченный кабинет-клетку, которая тоже тюрьма.
— Холуяж, — сказал Виктор Розов о своих коллегах после очередной встречи творческой интеллигенции Москвы с Ельциным.
Прав был Борхес: «У слов долгое эхо».
Хоть какой-то мосток — возвращаясь к софийской встрече — попытался перебросить Ежи Путрамент, который на примере Польши иллюстрировал, как трудно потрясти человека убийством, если покусились не на него самого или кого-то из близких. Даже если убийца за углом. Свою мысль он подкрепил ссылкой на Марселя Пруста: «Пожалеть страждущего героя какого-нибудь произведения гораздо легче, чем ближнего своего».
Того, что говорил с трибуны возглавлявший советскую делегацию Георгий Мокеевич Марков, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Государственных и Ленинской премии, я в своих Тетрадях не нашел.
Больше повезло в них рассказу Мокеича о его беседе наедине, то есть через переводчика, с Чарльзом Перси Сноу, CPS, как называют его в Англии.
Наверное, только породистые англичане — а Сноу был лордом — могут с такой великолепной непринужденностью носить потертые пиджаки, мятые рубашки и галстуки в пятнах, так носить, как будто это и есть норма, вернее, пренебрегая всякой нормой.
Недаром кто-то сказал о дипломатическом протоколе, что нарушать его позволено только тому, кто знает его назубок.
— Слушайте, — сказал, в версии Георгия Мокеевича, британец своему советскому собеседнику. — Меня уверяли, что вы просто чиновник от литературы. Но я послушал вас, вы — писатель. Так дайте же мне почитать что-нибудь из ваших книг .
— А что я ему дам? — воздевал руки горе в кругу своих Мокеич. — Ведь нас у них не переводят. Истинно партийная литература их издателям не по зубам. Им ее не переварить. И никакой ВААП тут не поможет. Да и стараться не будет.
Японский издатель Като, партнер ВААП, говорящий по-русски:
— В свое время я читал «Угрюм-реку» Шишкова, а теперь вот прочитал «Строговых» Маркова…
— Ну и…
— Сра-а-вниваешь… — протянул издатель.
— То есть?
— Сра-а-а-вниваешь, — повторил тактичный японец.
Сергей Залыгин рассказал, что Марков предлагал ему поехать в составе «братской писательской делегации» на Украину. Расписывал прелести таких поездок. Десантов, как их то ли всерьез, то ли с издевкой называли в писательских кругах. Хотя от желающих почтить участием не было отбоя.
— А я говорю, только что вернулся из Новосибирска. Зашел в продмаг . Там на прилавке кость говяжья. Начищена до блеска, как голова Грибачева. Написано: «Кость пищевая». — После небольшой паузы: — Вот потому меня, наверное, и прокатили на Госпремию.
— Сра-а-авниваешь…
Марков был одним из тех, кого называли любимцами ПИПРа, то есть партии и правительства.
Любовь, однако, не была универсальной.
По случаю какого-то то ли юбилея, то ли внеочередного награждения Георгия Мокеевича слово было предоставлено Шауро, заведовавшему тогда отделом культуры ЦК, то есть официальному представителю той партии, которой так ревностно служил Мокеич.
— Мне о вас говорить как о литераторе должностное положение не позволяет. Я могу говорить о вас только как об общественном деятеле, — дипломатично начал партбосс.
Пока он говорил, они стояли друг против друга с опущенными по швам руками. Продолжали так стоять и после того, как приветственные слова отзвучали и настала пора для ритуальных поцелуя и объятия. Кто первым сдвинется с места? Белорус Шауро или сибиряк Марков? Сибиряк оставался неподвижным как скала. Шауро после секундной паузы со словно заледеневшим лицом качнулся в сторону юбиляра, не поднимая по-прежнему рук, и прислонился щекой к его щеке.
Японец сравнивал Маркова с Шишковым. И смысл его сравнения нетрудно было расшифровать. Но ведомо ли было японцу, что кроме Шишкова был еще МаминСибиряк, а кроме Мамина — Мельников-Печерский… Нет конца этим сравнениям. Велика русская проза о Сибири. А на другом полюсе этого ряда — Проскурин и Анатолий Иванов с его «Вечным зовом», который Зиновий Паперный, кажется, назвал «Вечным зёвом». Зов или зёв, но угодил этот фолиант в основу безразмерных сериалов со зверского вида кулаками, бородатыми мудрыми старцами и краснозвездными комиссарами. Сериалы эти оказались «востребованными» даже в постсоветское время и до сих пор заполоняют телеэкраны, когда и Шишков, и Мамин-Сибиряк, да заодно и Марков надежно подзабыты. Таковы превратности литературных судеб.
С Анатолием Ивановым как-то на одном из бесчисленных заседаний в конференц-зале Дома литераторов оказался соседом — в ложе амфитеатра.
С трибуны прозвучало что-то о Шукшине.
— Что Шукшин. Заладили: Шукшин, Шукшин! Сочинил там несколько очерков и зарисовок. А шумугаму… Шукшин! — брюзжал автор многотомной и, кажется, даже не единственной эпопеи.
Десятилетия спустя довелось убедиться, что крайности сходятся.
«Не случайно такой талант, как Шукшин — злой, завистливый, хитрый, не обремененный культурой, исполненный лишь не ясной самому тоски, — способен стать героем “солоухинской школы” русской литературы и быть принятым многими читателями — от блатных до прекраснодушных докторов наук», — с огорчением прочитал в «Памятных записках» Давида Самойлова, вышедших в 1995 году, уже после смерти их автора.
Кедрин в 30-е годы:
У поэтов есть такой обычай —
Вставши в круг оплевывать друг друга.
Виктор Астафьев рассказывал:
— Пылили Федя (Абрамов) вместе с Васей (Беловым) по Вологодчине. Заехали ко мне. Пили вместе. Я Федору говорю:
— Что-то у тебя последний роман занудливый какой- то.
Он стал эдаким фертом, посмотрел свысока, хотя и снизу вверх, росточком-то маленький же, и говорит:
— Такого романа у нас лет пятнадцать не появлялось. — Подумал и добавил: — А может, и поболе.
Он же, Астафьев, о героях бесконечных романов Анатолия Иванова:
— Меня однополчане спрашивают: неужели они все такие — люди сибирские? Я ведь тоже сибирский. Да нет, говорю, такие же люди, как все. Пригласят домой, чайком напоят. — Помолчал, подумал, добавил, адресуясь к обретенной Ивановым должности главреда «Молодой гвардии»: — Барином стал. Редакторшу, которая нас всех в журнале растила, выгнал…
Виктор Петрович вообще мало кого жаловал, но сердиться на него было невозможно. Вот даже Федор Абрамов, вопреки своему обыкновению, в драку, ни в физическую, ни в словесную, не полез.
Астафьев серьезен, когда он пишет. А когда беседу ведет, у него всегда в зубах — смех, как выражалась моя теща, которую очень любил Федор Александрович.
При случае Астафьев и себя не пощадит. Когда я при встрече вскользь напомнил о каком-то полученном некогда ругательном письме от него, он успокоил:
— Да я сам знаешь какие письма получаю от читателей моих?! Один так оформил: «“Последний поклон”. Автор В. Астафьев. Автор — дристун, засранец, говнюк».
Анатолий Алексин утверждал, что у каждого писателя своя походка, и был, кажется, прав. Продолжая перелистывать страницы, я то и дело нападал на подтверждение этого тезиса.
В Грузии на каком-то симпозиуме, куда я был командирован секцией критиков Союза писателей, от имени азербайджанцев предоставили слово сыну Самеда Вургуна, а его в зале не оказалось. Тогда предложили в том же амплуа выступить поэту Рустам-заде.
Тот начал свое выступление словами:
— Никогда не думал, что буду выступать в качестве дублера.
Словечко, вошедшее в обиход с началом космической эры.
— Хитрые они, азербайджанцы, — сказал сидевший рядом со мной Реваз Амашукели.
Сам Реваз любил рассказывать, что кто-то из «стариков» сравнил его прическу с… шомполом солдата суворовских времен: у него буро-седая голова и густые колечками баки, свисающие чуть ли не до подбородка.
Прямо как у одной из героинь классика шведской прозы Августа Стриндберга: «На висках у нее с каждой стороны красуется по три штопора».
Сюда же можно присовокупить гоголевский графинчик с наливкой, одетый в серую шерстяную фуфаечку из пыли, который хранился у Плюшкина в чулане.
Есть, видимо, какие-то общие законы, по которым в воображении творческих людей функционируют механизмы сравнения — одного из самых мощных инструментов познания.
Всегда привлекала присущая языку людей искусства наклонность некие возвышенные, высокопарные определения переводить на нарочито бытовой язык. Огрублять, опрощать, что ли. Наверное, пошло еще от Пушкина, который о приливе вдохновения говорил: «Опять накатила на меня эта дурь…»
Даже прозревая гениальность «Бориса Годунова», он всего-навсего шлепал себя по кудрявой голове и восклицал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»
На том же симпозиуме в Тбилиси поэт Иосиф Нонешвили сказал раздраженно:
— Когда я сдаю свои стихи в печать, мне платят за строчку 2 рубля. А тут я выступаю перед вами бесплатно, и вы меня не слушаете.
Знакомый искусствовед, отвечая на вопрос о манере, в которой исполнены какие-то полотна на очередном вернисаже:
— Обыкновенный советский писанизм.
— Реализм в театре? Похожий текст похоже сыграть.
Данелия о своем «Осеннем марафоне»:
— Его можно было бы склеить лучше.
Людмила Гурченко о Театре киноактера:
— Клубок друзей.
Агнесса Кун как-то спросила, как сейчас выглядит Вадим Кожевников. Давно его не видела. Ответил, что он выглядит так, что одновременно ему можно дать и пятьдесят и сто лет.
— Маска, — пожала плечами Агнесса. — А маска не стареет.
…Стасик Ростоцкий рассуждал об Эльдаре Рязанове:
— Я же Элика давно знаю. Он был совсем не такой. Мы учились вместе. Он был тонюсенький, молчаливый и делал все мрачные темы. Морг там, сумасшедший дом… И никто не мог бы даже поверить в то время, что он будет комедиографом. Он вообще причислял себя к «потерянному поколению»: воевать не успел, рассказывать не о чем… Вообще Элик самый богатый из нас. И самый толстый.
— Сейчас он новый фильм снимает, о гусарах…
— А его закрыли.
— Почему же, интересно?
— Да какие-то там аллюзии нашли. У него там Третье отделение фигурирует… Мол, не намек ли? Тут ему еще «Гараж» подпортил.
— Но прекрасная же картина!
— Я ему говорю: Элик, если у тебя гараж сожгут, ты не обижайся. Можно, конечно, преувеличивать, но не до такой же степени. Фарс.
— Он убежден, что это сатира.
— Фарс тоже сатира…
Справедливости ради надо отметить, что и «Элик» не очень-то охотно говорит об успехах других. И в любой компании, пусть даже в присутствии Галины Улановой — было у меня на даче — видит себя не иначе как премьером.
Слушали вместе с Валентином Петровичем Катаевым выступление по телевидению в высшей степени известного и столь же популярного кино- и театрального артиста. Рассуждал, как всегда, правильно, серьезно, убежденно, с пафосом. Истово и благородно. Неожиданная реплика Катаева:
— Я же всегда говорил, что все актеры — дураки. Им нельзя позволять говорить своими словами. Их дело — читать чужой написанный текст.
…Володя Чивилихин — с ним учились на журфаке МГУ, а потом работали в газете, написали даже книжку вместе о двух поколениях семьи кузбасских шахтеров Деделовых, — встречая в баре Дома литераторов, всегда донимал — сейчас бы сказали «доставал», — естественно в состоянии подпития, одним и тем же вопросом, стоило нам только взгромоздиться на высокие стулья у стойки:
— Боря, бля, ну скажи ты мне честно, ну почему?
— Что «почему»? — исправно переспрашивал я.
— Сколько лет друг друга знаем, а? Ну почему, бля, ты за все время ни разу не обосрал меня? Почему? Не продал, не заложил?
— Случая как-то не представилось, — оправдывался я. — Да и желания особого не было.
— Ну тогда чего бы нибудь хорошего обо мне написал, — сорвалось у забронзовевшего прозаика и однокашника, которого внезапно нахлынувшая, но вполне заслуженная слава сделала почему-то не добрее и благодушнее, а ожесточеннее и злее.
Работая в «Комсомолке», он был добрее. Сохранилось посвящение на его книжке: «Замечательному товарищу и газетчику в память о совместных работах комсомольских лет. 6 ноября 1957 г .».
Впрочем, и музыка блоковского «Сегодня я гений!» не чужда самоощущения людей искусства.
Василь Быков:
— Писатель — строитель и звонарь. Будем же звонить. Кто-нибудь да услышит.
Цветаеву спросили: почему у вас такие разные стихи?
— Это потому, что годы разные.
Андрей Битов:
— Я долго обдумываю, порой несколько лет, свои вещи, а пишу потом быстро. В течение двух-трех месяцев. Меня в это время никакой силой от стола не отдерешь. Худею на несколько килограммов.
Шукшин:
— Форма — она и есть форма. Можно в ней отлить золотую штуку, а можно в ней же остудить холодец.
Гавриил Троепольский рассказывал:
— «Белый Бим» семь месяцев в цензуре томился. Красный карандаш над ним висел. «Колокол»? Пришло в голову, когда прихватило сердце и положили в больницу. Лежи, мол, и не рыпайся, а то концы отдашь. Оно на спине-то лежа да в потолок глядючи лучше думается.
В других обстоятельствах он наградил меня неведомо где услышанной, а может быть, и им сочиненной частушкой, пародией на любовные вирши, которые, наверное, и он получал в большом количестве «для отзыва» от своих читателей и почитателей:
Болит на сердце рана,
Тоской сжимает грудь,
Течет вода из крана,
Забытого заткнуть.
Недаром, видно, еще Козьма Прутков советовал заткнуть фонтан тому, у кого он есть.
Владимир Дудинцев о работе над вторым романом:
— Пока я «Белые одежды» писал, у меня случился инфаркт, инсульт. Словом, весь букет. Я очень возбуждаюсь, когда работаю.
Хоронили на Новодевичьем Твардовского. У свежезасыпанной могилы, когда народ начал уже расходиться, увидел сокурсницу по университету, Светлану Басюбину, по первому мужу Кузнецову. Последний раз виделись десять лет назад.
— Ну что, теперь до следующих похорон? — спрашиваю.
— Да вроде уж и хоронить-то некого…
…Недавно разжалованный из секретарей ЦК в министры культуры, но по-прежнему кандидат в члены Политбюро Демичев собрал у себя своих заместителей и пригласил драматурга Салынского, делегированного Союзом писателей в члены правления ВААП.
Министр, нравоучительно:
— Западным драматургам вольно писать острые разоблачающие вещи — они ведь отражают существующую реальность, объективную правду уходящего, дряхлеющего мира.
Замминистра, «ведающий» драматургией, истово кивает:
— Он еще долго будет таким образом дряхлеть. — Неожиданная реплика Салынского. Смелость, которую злые языки долго еще будут объяснять фактом недавнего понижения хозяина кабинета в статусе.
Последний, слегка пригасив апломб:
— А наши (звучат фамилии Розова, Володина, Арбузова, Гельмана, Салынский подразумевается), как правило, либо сквозь замочную скважину что-то подглядят, либо намеренно оклевещут или исказят… Но… — и это уже откровенный пас в сторону Салынского и в пику набравшему уже было воздуха в рот заму, тоже «ведающему» драматургией, — но пора уже себе уяснить, что отвечать надо не только за разрешение публиковать, но и за запрет. — И совсем уж вольтерьянски: — У нас никто не боится запретить, но все боятся разрешить.
Замы покидали кабинет, почесывая недоуменно в голове.
Нет, «верхи» уже не были столь единодушными и всесильными, как это кажется сейчас. И вожделенная свобода, пришедшая с перестройкой, была не пожалована, а вырвана.
Вольномыслие, пусть порой и в форме трепа, лезло из всех щелей задолго до появления Горбачева на горизонте политической жизни.
И канонизированная молвой кухня была не единственной трибуной.
На собрании кинематографистов выступал Евгений Габрилович:
— Скулят, что нет зубастой комедии. Но когда она появляется, начинают полировать ей зубы. Да так, что от них ничего не остается. Боятся обобщений. Но природа искусства — в обобщении. Зритель из зала бежит. А мы вопрошаем: «Что случилось с комедией?!»
Пьесы Володина после стольких лет забвения вышли на простор. Его стали снимать. Возник кинематограф Володина. А мы, имея такого мастера, говорили, что у нас нет сценаристов.
— Времени-то у меня мало осталось, — сказал Габрилович, когда на трибуне перед ним загорелась красная лампочка. А я невольно вспомнил, что оратору уже под девяносто.
Маэстро продолжал, словно бы не замечая помимо его желания возникшего подтекста:
— Времени у меня осталось пять минут. А у меня еще пять страниц тезисов. За каждым тезисом — сюжет. Так всегда: одни говорят — работай, другие — надо закругляться.
Игорь Андропов, сын Юрия Андропова, рассказал, как один из «молодогвардейцев», кативший бочку на А. Н. Яковлева, уличая этого искалеченного войной выходца из ярославской глубинки в русофобии, вербовал его в Союз Михаила Архангела.
— Звонит, говорит, надо бы нам встретиться… Где, спрашивает, вам удобнее будет? Ну что ж, думаю, я-то к нему поеду? Ему нужно, пусть и приезжает… Пригласил к себе. Он приехал. Надо, говорит, объединяться. Время такое. Союз Михаила Архангела. У меня, говорю, как у хозяина, два выхода. Один — указать на дверь. Другой — предложить вам молча пить. Я предпочитаю второй. Налил по полстакана. Пьем, молчим. Он говорит: «Между прочим, выход вашей книги и от меня зависит». Пришлось прибегнуть к первому варианту.
Ссылка на Союз Михаила Архангела тогда показалась неудачной шуткой. Просто хотел человек как-то подсунуться к сыну всемогущего шефа КГБ.
Много лет спустя в сборнике воспоминаний о Бовине прочитал у Анатолия Черняева, что такой союз действительно существовал (а может, и существует?):
«Бовин зазвал меня к себе вечером. Был Коля Шишлин. Я застал их за разбором списка членов советского «Союза Михаила Архангела». Много там знакомых и незнакомых имен: Солоухин, Чивилихин, Сартаков… многие члены издательства “Молодая гвардия” — там гнездо почвенности и антисемитизма… Полсотни наберется. Словом, что-то вроде масонской ложи. Бовин решил ею заняться».
Дело было осенью 1982 года.
Ленинградский мюзик-холл решено было в первый раз послать на гастроли за рубеж. И сразу — в Париж. Труппу в этой связи велено было подсократить — не обязательно всем лететь, да и невозможно всех командировать. Артисты принялись проводить сокращение на свой лад. Посыпались анонимки друг на друга. Когда разобрались — ни один не остался неотмеченным. Начальник городского управления культуры, которому было поручено везти коллектив в Париж, собрал труппу, объяснил ситуацию. Товарищи поняли, что погорячились. По его предложению и с общего согласия все анонимки порвали и выбросили в урну.
— Он, этот начальник, вообще был человеком с подходом, — рассказывал мой заместитель в ВААП, тоже выходец из партийно-идеологической прослойки города на Неве. — По прибытии в Париж, вместо того чтобы полицейский режим установить, повел кордебалет на стриптиз. Заглянули в другие злачные места. «Вот, — говорит, — теперь убедились, какова здесь участь красивеньких девочек вроде вас?» Они все поняли, жались к начальнику своему, как овечки к вожаку-барану.
Пришлось и дальше действовать по принципу «то таской, то лаской» — кого по попке похлопать, с кем-то за аперитивом, входившим у нас в моду, посидеть.
И вот когда ансамбль вернулся — после триумфальных гастролей и целехоньким, — ни одна заблудшая овечка не «избрала свободу», анонимка пришла на руководителя: он, мол, вел себя фривольно, водил артистов по ночным клубам.
Перевели бедолагу в управление кинофикации. И не начальником. Так был наказан преждевременный либерализм.
А. Б. Чаковский, предлагая коллегам-писателям проголосовать за «предложенные инстанцией кандидатуры»:
— Убежден, товарищи, что мы единодушно…
Реплика в зале:
— Александр Борисович обладает могучим даром предвидения.
— Да?
— Ну а как же. Вот увидите, что все до одного проголосуют за.
— Ах, в этом смысле…
Все же нашлись голоса против. И немало.
Шолохов рассказывал, что отказывался ехать в Москву на вручение Ленинской премии, присужденной ему за рассказ «Судьба человека».
— Почему же?
— Не хотел получать премию вместе с этой футбольной командой.
Дело в том, что в том же году Ленинская премия была присуждена за книгу «Лицом к лицу с Америкой» о поездке Хрущева в США. Авторский коллектив исчислялся двузначной цифрой.
Роман Кочетова «Чего же ты хочешь?», по поводу которого даже на Старой площади морщились, остался в памяти хохмой Зямы Паперного: «Чего же ты хохочешь?»
И еще один эпизод. Разгромную статью о романе написал для «Комсомолки» Александр Михалевич, «первое перо Украины», как говорил один из коридорных авторитетов газеты.
Незадолго до того как подошло время подписывать полосы с «распашкой» Михалевича, позвонил уполномоченный Главлита, окопавшийся на одном этаже с редакцией. Романов. Тот, напомню, с кем довелось иметь дело по поводу землетрясения в Ташкенте, и кого, в отличие от главного в Главлите Романова, звали «маленьким», хотя он на голову был выше своего шефа. Этот долговязый «маленький» начал что-то бормотать о нецелесообразности публикации, шельмующей…
— Государственная тайна здесь есть? Нет? Тогда какие проблемы? — парировал я и повесил трубку.
Минут через десять звонок по вертушке. На этот раз Романов-большой с его хорошо знакомым басом. Привычный сценарий.
— Слушай, я тебя прошу, сними… Для твоей же пользы.
Я опять завел было насчет военной тайны.
— Не валяй дурака, — пробасил Романов. — Есть мнение…
— Какое мнение, чье? Мне ничего не известно.
— Тебе не известно, а до меня довели. На то мы здесь и сидим…
— Да у меня уже номер горит. Итак опоздание на…
— Сними статью. Насчет опоздания я объясню кому надо.
— Не сниму.
— А я штамп не поставлю.
Вот уж поистине против лома нет приема.
Без автографа Главлита на сигнальном экземпляре новорожденного номера типография печатать тираж не будет. А у редактора волосы на голове зашевелились — ЧП на всю страну. Многомиллионные убытки.
Сдался. Велел дежурному редактору снять Михалевича и поставить что-то из запаса.
О чем и до сих пор жалею. Надо было пойти ва-банк… Или, как говорила в таких случаях Лариса Жадова, жена Константина Симонова, положить голову на плаху.
Труднее всего было потом объяснить происшедшее Михалевичу.
Пришлось в утешение ему поделиться личным горьким опытом. Мои, главного редактора газеты, опусы снимал из номера консенсусом Секретариат ЦК ВЛКСМ. Такое случилось с рецензиями на «Кентавра» Джона Апдайка и «Белый пароход» Чингиза Айтматова.
Относительно статьи об Апдайке тогдашний первый секретарь Сергей Павлов порекомендовал «присмотреться к тем, кто тебе пишет».
Во втором случае не обошлось без курьеза. Повел автора повести к первому секретарю комсомола, теперь уже Тяжельникову. В его кабинете Чингиз заинтересовался огромным, на весь пол, ковром и на настороженный вопрос хозяина сказал, что ковер выткан сурами из Корана. Тяжельников, который арабского, естественно, не знал, почему-то сильно смутился, и в этом его состоянии выбить разрешение на публикацию статьи оказалось легче, чем мы предполагали.
Я потом так и не добился ответа от Чингиза — пошутил он или нет. А ковер постелили еще при Павлове.
Редакторское бремя сузило возможности работать «в поле». Поедешь в командировку по какому-нибудь письму — на тебя смотрят как на идиота, в лучшем случае чудака. Главный редактор… Делать, что ли, нечего? Зато за очередную рецензию садился как за корреспонденцию или репортаж. «Сбором материала» стало посещение кино- или театральной премьеры, чтение новой книги, знакомство со свежим номером журнала и всем тем, что имело к этому отношение, даже вот застолья в ЦДЛ или Доме кино, по поводу которых родилась хохма: «Для нас важнейшим из искусств является ресторан Дома кино».
Первыми деянием на новой, литературно- критической стезе стала статья о повести «Первый учитель» Чингиза Айтматова. Назвал ее по имени главного героя «Слава тебе, Дюйшен!».
Вслед за автором просто гимн пропел подвижнику, герою и мученику первых послереволюционных лет, взявшемуся с риском для жизни насаждать знания, учить ребятишек в аулах, где и взрослые-то, аксакалы, не знали, что такое грамота.
Не знали, и не хотели знать, и в недавнем красноармейце, никогда не расстававшемся со своей буденовкой, видели вызов устоям своей жизни. Словом, комиссар в пыльном шлеме Окуджавы, перековавшийся в учителя. С одного фронта на другой.
Прошли годы, и вышедшие в люди ученики Дюйшена говорят с удивлением и насмешкой о бывшем своем учителе, коротающем последние годы жизни сельским почтальоном: «Когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена, а сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита».
Рецензия получилась как манифест. В ней выразил буквально переполнявшее тогда восхищение цельной, несгибаемой личностью, для которой служение людям — не надуманный идеал, а потребность, такая же непременная, как пища, вода, воздух. С той же страстью обрушился на хулителей Дюйшена, его бывших учеников, ставших вельможами местного масштаба. В филиппиках по поводу аульской верхушки угадывались фигуры московского и всесоюзного масштаба.
Незнакомый тогда еще Чингиз позвонил с ИссыкКуля и сказал, что «рецензия на уровне повести», похвалив одной фразой сразу и рецензента и себя.
Ранние 60-е. Пора, когда недовольство сегодняшним днем выступало в форме воспевания первых революционных лет, когда Егор Яковлев привозил на шестой этаж свои документальные ленты об Ильиче, где Сталину противопоставлял Ленина.
Наверное, под впечатлением от айтматовского Дюйшена занес в Тетради историю, рассказанную братом героически погибшей в Отечественную партизанки Нины Сосниной из Малинского подполья Брянской области, о которой газета печатала с продолжением документальную повесть Виталия Ганюшкина.
«Были мы в концлагере. На прогулке видим, за проволокой к воротам приближается человек, по виду крестьянин, худой такой, черный весь, везет тачку, в тачке картошка. Часовой, полицай был, его остановил. Он снял с руки часы, отдал полицаю, тот его подпустил ближе к забору. Он тачку перевернул, покатилась картошка к забору. Кому-никому, да досталось.
На следующий день снова пришел. Опять с тачкой и с картошкой. Немецкий офицер дежурил. Ударил его по лицу. Тот тачку опять перевернул. Офицер стал его хлыстом отгонять от забора. Нам ничего не оставалось, как наброситься на эту картошку. Мы ее съели.
На следующий день он снова появился с тачкой. На него накинулись четверо эсесовцев. Они содрали с него одежду. Он голый стоял перед ними. Они повалили его на землю, били, топтали, сколько только хватило у них сил. Потом оттащили в сторону, как мешок с той же картошкой. Больше мы его не видели.
Может, нас померло бы сколько-то без этой картошки. А мы даже имени его не знали. В глаза ему ни разу не глянули».
Анна Ахматова в эссе в «Новом мире» напомнила притчу. Три человека везут тачки с камнями. Спрашивают одного из них:
— Что ты делаешь?
— Качу тачку.
Спрашивают другого.
— Зарабатываю на хлеб.
Спрашивают третьего.
— Я строю Шартрский собор.
Позвонили, вспомнилось, из ЦК ВЛКСМ и от имени тогдашнего первого секретаря Сергея Павлова пригласили на просмотр фильма «Первый учитель».
Мой любимый «Первый учитель» в кино? Надо ли говорить, с каким энтузиазмом двинулся на Маросейку, которая тогда называлась улицей Чернышевского. Там познакомился с режиссером фильма — Андроном Кончаловским- Михалковым.
«Дважды сынок», — сказал себе, вспомнив, что его папу и своего тестя Юлиан Семенов, предпочитавший быть Юлькой, называл «дважды гимнюк». Сразу возникло предубеждение. Претили манеры этого большеротого длинноволосого, в черных очках человека, который вел себя так, словно восторги каждого из зрителей вместе с американским «Оскаром» у него уже в кармане.
Фильм понравился еще меньше, чем его создатель. Больше того, возмутил. Из Дюйшена, этого первого учителя в заброшенном горном аиле, человека, по повести гуманного и нежного в молодости и старости, свое отношение к которому определил как «горький дымок грусти», режиссер сделал какого-то психопата, который не переставая, с первых кадров и до последних, кричит, если не орет, на окружающих, на любовь свою, на правых и виноватых… И рушит все вокруг себя.
В чем-то режиссер уподобился бывшим ученикам Дюйшена: если уж возносить — так до неба. Если уж обличать — так смешать с грязью. И всех в одну кучу — от Троцкого и Берии до такого вот пассионария революционных лет, как Дюйшен.
Просмотр был для узкого круга — несколько секретарей ЦК, заведующих отделами.
Как ни велико было мое неприятие картины, поначалу решил помалкивать, опасаясь, что ее и без того разнесут, но уже по совсем иным мотивам, другие ответственные зрители. Но на Кончаловского, к моему удивлению, обрушился ливень комплиментов, и тогда я не стал сдерживаться и сказал, что думал. Заступился за дорогого мне Дюйшена, как за близкого человека или родственника.
Другими участниками просмотра эти слова были восприняты ироническим переглядыванием, немой апелляцией к режиссеру — мол, не волнуйтесь, не ему решать…
Стало ясно, что где-то выше уже было высказано положительное мнение, скорее всего по соображениям, которые к достоинствам и недостаткам фильма не имели никакого отношения.
Кончаловский поблагодарил небрежно за добрые слова тех, кто их произнес, мне же, не вступая в спор, сказал с примирительной интонацией, что Айтматов высоко отозвался о фильме и никаких особых расхождений с его трактовкой главного героя повести не увидел.
Чингиз, которому я с тревогой рассказал о своих впечатлениях, тоже отнесся к моим эскападам холодновато.
— По-моему, нормальный фильм, — промямлил он.
По-человечески его можно было понять: трактовка трактовкой, а все-таки приятно, даже если ты сам почти уже классик, когда по твоей вещи делает картину входящий в моду режиссер, и не в Киргизии, что случалось и раньше, а в Москве, на «Мосфильме».
Спорить не стал. Такова се ля ви, как говорил один остряк, быть может, не догадываясь о тавтологии.
И все-таки обидно было за Дюйшена. Чувство было такое, что его предали еще раз.
И вот сравнительно недавно, уже в нынешние, так сказать, времена, в руки попался двухтомник воспоминаний Андрона «Низкие истины» и «Возвышающий обман».
«…Борис Добродеев принес мне сценарий по “Первому учителю” Чингиза Айтматова… я взял повесть, прочитал ее, и тут же мне что-то начало мститься. В то время я очень увлекался Куросавой, мне замерещилась самурайская драма, азиатские лица, снежные горы, страсть, ненависть, борьба… Сценарий я сначала переписал сам, потом позвал Фридриха Горенштейна, заплатил ему, и он привнес в будущий фильм раскаленный воздух ярости.
…Надо было утвердить сценарий у автора… Айтматов прочел сценарий прямо в коридоре “кремлевки”, где он тогда проходил медицинский осмотр. Сказал: “Мне нравится”. Картину запустили в производство.
От повести сценарий отличался очень сильно. Действие в нем происходило только в прошлом, современный пролог и эпилог мы отбросили. У Айтматова учитель сажал тополя, у нас был единственный на весь аил тополь, и его-то как раз рубил учитель, чтобы строить новую школу взамен сожженной. Во многом сценарий был антиподом повести».
Подтвердились и догадки относительно истоков позиции комсомольских секретарей. Фильм, как тогда водилось, Гос кино долго не выпускало на экран, ссылаясь на протесты партийного руководства Киргизии, которое было возмущено тем, что киргизы показаны «диким, нецивилизованным народом».
Чингиз, что тогда тоже было в порядке вещей, попросился к Суслову. И случилось чудо. Этот сухарь с репутацией ортодокса из ортодоксов неожиданно заявил: «Мы вас в обиду не дадим. Если ЦК Киргизии думает, что у киргизов в прошлом все было хорошо, тогда зачем и революцию надо было делать?!»
Стоило только изменить ракурс взгляда — и из сотрясательницы основ строя картина превратилась в его опору.
Кстати вспомнилось: именно так предлагал Твардовский взглянуть на «Ивана Денисовича» Солженицына, когда «Новый мир» выдвигал его на Ленинскую премию. Воспет труд и человек труда, советский человек, который оcтается собой в любых условиях. Даже в лагерях. При тайном голосовании сторонники строптивого автора недосчитались всего нескольких голосов.
А будь по-иному, быть может, и судьба Солженицына, хорошо это или плохо, сложилась бы совсем другим образом. В конце концов, и на «Архипелаг ГУЛАГ» можно было бы посмотреть как на иллюстрацию и комментарии к закрытому докладу Хрущева на XX партийном съезде, текст которого стал секретом Полишинеля задолго до появления самого взрывного труда Александра Исаевича.
И жаль, что ни у кого не хватило фантазии представить Хрущеву в этом свете «Доктора Живаго». Одним скандалом на совести Никиты, героически развенчавшего Сталина, было бы меньше. И кто знает, может, и дни Бориса Леонидовича на этой земле продлились бы.
Вот только Нобелевскую премию в этом случае ему вряд ли бы присудили.
— Вы должны понять ситуацию в Америке и психологию американского издателя, который совершенно уверен в том, что каждая книга, которая вышла в СССР и не была раскритикована, а еще лучше конфискована, а автор не был подвергнут каким-либо гонениям, заведомо не представляет никакой ценности. В глазах нашего издателя это заведомая агитка, голая проповедь коммунизма, зарифмованный или изложенный в диалогах и пейзажах какой-нибудь очередной правительственный или партийный циркуляр. Но принесите ему рукопись и скажите, что она была отвергнута в Москве, он ее напечатает не глядя.
Это неожиданное заявление нам с Чингизом Айтматовым довелось услышать в конце 70-х прошлого уже века от Нормана Казинса, известного американского писателя-эссеиста, когда он прилетел в Москву во главе, это у них тоже практиковалось, группы своих коллег для встреч с советскими писателями.
Чингиз, который и привел Нормана в ВААП, пошутил:
— Так, может, нам опубликованные уже вещи еще раз перепечатывать на машинке и везти в Штаты в таком виде?
Казинс посмотрел на него внимательно, без улыбки:
— Это не лишено смысла.
— Ваше искусство, — еще один взгляд в сторону Чингиза, — славит человека. Это не очень модно у нас и не всем понятно. Например, то, что прославление человека как такового не адекватно прославлению, скажем, общества…
«Этого не понимали не только на Западе», — подумал я теперь. В постсоветский период Чингизу стало не до шуток. Если в советские времена ортодоксальная критика упрекала его в том, что днем с огнем ищет и не находит в его повестях и рассказах некиих хрестоматийных признаков соцреализма, то теперь уликой были попадавшиеся в тексте слова «социализм», «советская власть», «колхоз», «соцсоревнование»…
Компрометирующим фактором стали в начале 90-х и те Государственные премии и другие отличия, которые Айтматов получал при советской власти.
В отчаянии он однажды пришел посоветоваться — не переписать ли «Первого учителя» или «Прощай, Гюльсары», принесшие ему мировую известность. Пришлось напомнить горький опыт Шолохова, отредактировавшего в поздние 40-е «Тихий Дон». Правда, в противоположном духe: осоветил, если можно так сказать, эпопею, в то время как у Чингиза появился соблазн обантисоветить свои шедевры. Хорошо, что Шолохов вернулся к изначальной редакции, а Чингиз отказался от нелепой затеи.
— Есть оценка критики, и есть оценка публики, — продолжал меж тем философствовать на страницах моих Тетрадей Норман Казинс. — Первая более профессиональна, но вторая, в конце концов, всегда оказывается правой. Сейчас наступило определенное разочарование в модернистском искусстве.
И тут наш гость рассказал об одном известном своем соотечественнике, чьи картины, по его словам, представляли собой полотна, наполовину выкрашенные в стальной цвет, наполовину в красный. Это был первый период его творчества. Когда публика попривыкла, он поменял краски местами. Потом наступил третий период — он провел вертикальную зеленую полосу в левой части полотна. И наконец, четвертый — то же самое, только в правой части.
— Четыре периода в творчестве одного художника, не многовато ли? — с мрачным юмором вопросил Казинс. — Вашим писателям надо знать нашу литературу, наше искусство. Но не надо соревноваться в авангардистских трюках или сексуальных сценах. Хотя я знаю, что издатель у нас будет недоволен, если в предложенной ему вещи герои не улягутся в постель уже на третьей странице.
…Рассуждения и рекомендации американского высшей пробы интеллектуала причудливым образом переплелись с только что услышанным по радио интервью с Владимиром Войновичем, которого «Свобода» пригласила в студию по случаю его семидесятилетия.
Войнович звучал оптимистично. И неудивительно. Он, бывший диссидент, теперь на пиру победителей, выражаясь языком нелюбимого им Солженицына, и этот пир длится уже немало лет. Нет недостатка ни в симпатиях широченной читательской аудитории, ни в благоволении к нему новой власти, состоящей из бывалых чекистов, отмывающих себя заигрыванием с бывшими возмутителями спокойствия. Да и книги новые и старые выходят одна за другой.
Между тем обмен мнениями в эфире прозвучал почти дословным повторением диалога Чингиза Айтматова и Нормана Казинса, сохранившегося только в моих Тетрадях.
Ведущий: Я хотел бы немножко поговорить о литературе. Вы сказали в одном из наших разговоров, что все запрещенные книги рано или поздно публиковались. И вот «Чонкин» был как бы обречен на успех тем, что его запретили. Но не кажется ли вам, что сейчас литературе грозит страшная опасность, еще большая, чем запреты, — ей грозит опасность нечитания? По-моему, в России в этом плане ситуация намного хуже, чем в 80-е или в 90-е годы. Люди читают мало. Что нужно сделать, чтобы люди читали? Может быть, опять нужно книги запрещать?
Владимир Войнович: Вот именно, я как раз и хотел сказать, что их нужно запретить таким образом, чтобы все поняли, что это книги запрещенные. Тогда их начнут добывать, читать под подушкой. Знаете, во времена самиздата тоже жаловались, что молодые люди мало читают…
Ведущий оскоромился потерявшим актуальность анекдотом: «Бабушка, бабушка, ты зачем на машинке “Войну и мир” перепечатываешь?» — «Внучка, кроме самиздата, ничего не читает».
«Вот совсем недавно, — подумал я, — какие-то умники по признаку экстремизма инициировали уголовное разбирательство по поводу книги Андрея Пионтковского “Нелюбимая Россия”, что моментально сделало ей тираж. Если бы слышали этот разговор с Войновичем или прочитали его на сайте, наверное, воздержались бы от такого подарка нелюбимому автору».
Другая сторона медали: два либерала на полном серьезе рассуждали в эфире о том, что участие большой группы российских писателей в очередной книжной ярмарке во Франкфурте потеряло всякий смысл, поскольку туда не успели попасть книга Каспарова, которую по чьей-то злой воле задержали выпуском в типографии, и «Записки недобитка» помощника Галины Старовойтовой Руслана Лунькова, тираж которой был чуть ли не из той же типографии выкран.
Ну и, наконец, вспомнилось из рассказов о Булгакове его ближайшего друга Сергея Ермолинского.
Булгаков:
— Я был недавно в числе приглашенных в американское посольство… Вообще я иностранцев побаиваюсь… Они могут окончательно испортить мне жизнь. Если говорить серьезно, я не испытываю никакой радости от того, что они переиздают мою «Белую гвардию» с искажениями, их устраивающими, или где-то играют «Дни Турбиных». Ну, пусть играют. Черт с ними. Но что они там про меня пишут? Будто я арестован, замучен в ЧК, помер… А вы заметили, что они приходят в возбуждение не от литературы нашей, а лишь от тех писателей, кто у нас хоть чуточку проштрафился. Эх, эх, ну как это назвать? Торгуют сенсациями, что ли?
Ну а Норман Казинс, один из первых американцев, кто осудил взрыв атомной бомбы над Хиросимой, на прощанье одарил нас с Айтматовым еще одним откровением:
— Когда мы ехали сюда, нас инструктировали, о чем мы должны говорить, что нас могут спросить и что мы должны будем ответить.
Мир тесен. Вернее, единообразен.
…Это у Тимура Зульфикарова я обнаружил употребление слова «критика» во множественном числе. В посвящении, которым он сопроводил подаренный экземпляр своей только что вышедшей книги «Поэмы странствий»: «Тому, чьи благородные целомудренные критики я читал, дарю книгу, которой отдал 20 лет жизни. С поклоном. Т. Зульфикаров. 9.11.81».
Критики. В автографе Зульфикарова это не о тех, кто пишет, а о том, что выходит из-под пера. Есть стихи, повести, рассказы, романы. И есть такой жанр, как критики.
Критиками и я стал с тех пор мысленно называть свои статьи и рецензии. А то, что оставалось за кадром, обстоятельства бытия обозреваемых авторов, — «критиками в прозе» с оглядкой уже на Тургенева. Впрочем, большинство «критик в прозе» так и осталось лежать в Тетрадях. Не по цензурным соображениям, должно признать, нет, а просто по недосугу или недостатку уверенности, что мало кто во мне подозревал, как сотрудники Реенпяя — романтизм в натуре своего шефа.
Теперь я увидел, что самая ранняя запись в этом духе датирована 1955 годом. Я тогда вместе со своим старшим по возрасту коллегой, репортером из отдела информации Колей Коротеевым, был командирован в Севастополь — делать полосу, посвященную столетию этого «города русской славы». Полоса получилась, ее хвалили на летучке. Но многое в нее не вместилось. И не только по недостатку места. Не в жанре! Вечная мука журналистов, замахивающихся на литературу. А кто в «Комсомолке» на нее не замахивался? Упоминался, но только упоминался, в опубликованной полосе, например, Сергеев-Ценский — как автор эпохальной «Севастопольской страды», которую, говоря пушкинскими словами, все почитали, но, кажется, мало кто читал.
Сергеев-Ценский. Почему-то это имя, когда собирались в Севастополь, представлялось пришедшим из далекого прошлого, как сама первая оборона Севастополя, которой была посвящена эпопея.
То есть известно было, в том числе и из курса истории литературы, который сдавали на факультете журналистики, что существовал в оные времена такой весьма известный писатель, чуть ли не классик, современник Горького, Бунина, Чехова, Куприна… И книги его лежали на полках в библиотеках, но что он по сию пору жив и здоров и что с ним можно даже встретиться, в голову как-то не приходило.
На всякий случай все-таки поинтересовались у городских властей, и те сказали, что да, здравствует, слава богу, но ведет со своей супругой уединенный образ жизни, ни с кем не видится, отказывается кого-либо принимать. А кроме того, добавили, хотя это к делу не относилось, отличается вместе со своей супругой невероятной скупостью. Выращивают у себя на участке дыни и арбузы, посылают домработницу торговать ими на базар и на каждом плоде вырезают ножом цифру — за сколько отдавать.
Я спросил номер телефона и рискнул позвонить прямо из кабинета в горисполкоме, где нам все эти страсти- мордасти рассказывали. Услышав в трубке густой, как застоявшийся мед, бас и удостоверившись, что принадлежит он «самому», представился и сказал, что хотел бы со своим коллегой, мы оба из «Комсомольской правды», поговорить с высокоуважаемым Николаем Сергеевичем, когда ему это будет удобно, и с этой целью готовы немедленно приехать к нему в Алушту ну хотя бы на час. Упирал, естественно, на грядущий юбилей легендарной обороны.
Тот же могучий бас, в котором вдруг почудилась какая-то хрипотца, прогудел, что будет рад принять гостей по такому священному поводу, приезжайте хоть завтра, если сможете.
Мэтр оказался обладателем не только оглушающего голоса, но и гармонирующей с ним серебристой львиной гривы, украшающей большую круглую голову на мощных еще, несмотря на возраст, — приближался 80летний его юбилей — плечах.
Все, что касалось обороны, попало в полосу, а Тетрадям достались фрагменты воспоминаний хозяина, не скрывавшего своей радости от посещения московских гостей. Вот и пойми, сам человек выбирает одиночество или встает в позу, когда его на это обрекают.
Больше всего Ценский говорил о Горьком, о том, в каком восторге был тот от каждой новой вещи своего младшего собрата по перу, и как он, то есть Горький, «прижался к груди и оросил слезами мою рубаху, хоть выжимай».
— Гения может понять только гений.
О Куприне вспоминал, наоборот, без доброжелательства. Если Горький был вне конкуренции, то тут, скорее всего, было соперничество, дух которого и до сих пор еще не развеян.
— Выхожу я из трактира после завтрака, слышу за углом какой-то гвалт. Кто-то с кем-то громко ругается. Заворачиваю за угол, вижу — ру-га-а-ется извозчик… которому Куприн недодал десять копеек.
Тут хозяин тряхнул очередной раз своей львиной гривой и громоподобно хохотнул.
В попавшей в руки полвека спустя книге «Тогда в России» — о депутате всех дореволюционных Дум, известном российском купце и политике Павле Фаддевиче Калугине, расстрелянном в 1920 году, — приводится реплика А. И. Куприна: «Сергеев-Ценский распекает меня в хвост и гриву, за что мы испытываем друг к другу взаимную антипатию».
На прощанье наш хозяин рассказал одну историю, связанную с обороной Севастополя уже в Отечественной вой не.
— Кружил над Графской пристанью немецкий самолет. Сбросил на парашютике какой-то мешок. Подбежали — там листовки. Мол, завтра будем в городе, рус матрос, сдавайся. Рядовой Петренко снял штаны и показал улетающему фашистскому асу задницу.
Командир батареи его укорил:
— Рядовой Петренко, почему себя так нескромно ведете? Что о нас враг может подумать?..
Тот:
— А как он себя ведет?
Такое не придумаешь. Впрочем, Никита Михалков придумал. Именно придумал, по убеждению одного зрителя, который так откликнулся в Интернете на «Утомленные-2»: «Патриотическое порно».
Никита Михалков не один раз рассказывал, что во время съемок изучил сотни страниц архивного материала и узнал о войне много нового. Что, например, немецкие танки ходили под алыми парусами со свастикой. Допустим, было такое.
Но вот сцена, когда немецкий летчик, выставив задницу из самолета, пытается гадить на советский корабль с ранеными и пионерами, выглядит не как архивная, а как сексуальная фантазия самого режиссера.
Много лет спустя в Италии, в Риме (1975 год), на обеде в честь делегации советской интеллигенции встретился с другим писателем, чье имя тоже пришло словно бы из какого-то далека-далека. Альберто Моравиа. «Сильно хромает, — читал теперь самого себя. — Худой. Яркий, багряных цветов галстук и контрастирующий с ним снежной белизны крутой зачес. У него своего рода нервный тик, который выражается в том, что ему все время надо производить движения, все время что-то откусывать, жевать, бросать что-то в рот, что-то крутить в руках — вилку, кусок хлеба, крошить стебель только что поданного артишока, подрагивать, как Наполеон у Льва Толстого, ляжкой…» Позднее узнал, что Моравиа в возрасте девяти лет заболел туберкулезом костей и следующие девять лет провел на курортах и в санаториях. То, что казалось странным, было болезнью.
У него три взгляда: первый беглый, как бы примеряющийся, потом вспыхивающий на мгновение и тут же — рассеянный, уходящий куда-то внутрь себя…
Он спросил о Евтушенко, без какого-либо специального акцента, просто имя, которое на слуху.
А кого, спрашиваю, и тоже без подтекста, еще знаете из советских писателей?
Он пожевал губами, растеребил еще один кусок хлеба.
— Знал Эренбурга… Знал одного редактора литературного издания. Был восхищен, как он его делает…
— Чаковский? — спрашиваю из окаянства.
— Н-нет, — энергично.
— Твардовский?
— Да-да! — Энергичное жевание и радостные кивки.
— Потом, Фадеев… Да-да, Фадеев… Знал Кончаловского. Молодой режиссер… Видел его фильм, знаете, о событиях на селе, в Казахстане…
— Это Киргизия. По повести «Первый учитель». Чингиза Айтматова.
— Да-да, наверное…
Это имя, боюсь, ничего ему не говорило.
Моментальная реакция на протокольную фразу о возможном посещении СССР:
— А как бы это могло выглядеть?
Прямо как тот мальчик на шведской ферме.
Разговорившись, он коснулся того, над чем в ту пору работал:
— «Духовная жизнь» — это длиннейшее интервью, которое я беру у героини. Скажем, в обычном романе, если герой выходит на улицу, надо объяснять, что происходит вокруг него, какая стоит погода и т. п. В интервью это вовсе не обязательно. Образ приобретает более отчетливые формы. Это как брызнуть водой на раскаленный камень.
Именно таким образом это тридцатилетней давности заявление живого (тогда) классика подействовало на меня. Оказывается, работая над новым романом, Моравиа бился над тем же, что и неоднократно цитируемые в Тетрадях Шукшин и Катаев, которые тоже тяготились сюжетом.
А еще раньше, много раньше, Сент-Бев оправдывался: «Я не хочу заниматься пересказом, но мне нужно было обрисовать ситуацию, чтобы обрисовать характеры».
— Я родился в дворянской семье, — рассказывал Бертолуччи, спонтанная исповедь которого расположилась в Тетрадях рядом с заметками о Моравиа. — Детство провел в комфорте, и всем моим творчеством как бы прошу прощения за это. За то, что жил в лучших, чем большинство, условиях и имел больше возможностей для развития…
Дело было в августе 1977-го, на даче у Симонова, — напомнили строки. В Москве шел очередной Московский, ставший уже международным кинофестиваль. Его главной «фишкой» был Бернардо Бертолуччи, только что закончивший «Двадцатый век», который показывали вне конкурса. Живая сенсация, автор «Последнего танго в Париже», «Апокалипсиса»…
Честь пригласить звезду мирового кино к себе домой выпала при распределении гостей Константину Михайловичу. Пригласил он и меня.
Утопающая в зелени и цветах терраса, светлый, пронизанный солнцем холл с деревянной яично-желтого цвета стойкой бара, которую хозяин некогда смастерил самолично.
Открыта дверь в столовую, где на деревянном же некрашеном столе — блюдо с дымящейся картошкой, обрамленной красной икрой и селедкой. Ледяная «Столичная» в серебряном ведерке, стеклянная амфора с окрошкой. Мерцающий созревшими для жарки шашлыка углями камин…
Хор голосов совершенно искренне и безоговорочно восторгавшихся «Двадцатым веком».
Хозяин по многолетней, почти врожденной привычке обрамлять каждую свою фразу покашливанием и улыбками давал понять, что не со всем в фильме согласен.
— Моя жена покорена, мне тоже нравится, но есть некоторые соображения. — И после паузы: — Я их выскажу… Я вам напишу письмо.
Шумок за столом почтительно приутих на мгновение, непроизвольно зафиксировав значимость момента. И единственным, кто оказался как бы индифферентным к намерению хозяина, был тот, кого оно касалось.
Вежливое безразличие, сквозь которое обидно просвечивало непонимание того, кто перед ним и чем интересен. Фамилию, может, и запомнил, но не больше.
Сразу обозначилась пропасть. Но не между людьми, — между мирами, та самая, которую ощутил еще при встрече с Альберто Моравиа.
И почудилось, что горечь плеснулась в глазах Константина Михайловича, доселе безмятежно восседавшего в кругу гостей и поклонников его таланта.
Миг прозрения? Загадочного и неумолимого, когда словно бы по чьей-то невидимой и неслышной команде в мгновение ока меняется все вокруг: краски, тона, звуки, запахи, плотность самого воздуха. Все становится иным — жестко-прозрачным и далеко видным.
Столько лет прошло, сколько лет-эпох, сталкивавших друг друга с пьедестала, минуло, сколько режимов на теперь уже постсоветском пространстве сменилось, а эта нота звучит в обществе еще надрывнее:
— Мы никогда не будем в их [западном] мире своими, признанными в качестве равной, полноценной части их многочисленных сообществ. Союзников у России может быть сколько угодно. С точки зрения Запада это будут союзы с людьми другими, чужими, неправильными, вечно в чем-то виноватыми, — сказал один видный культуролог лет семь назад, и его тут же покрыл не менее видный колумнист, обозвав в «Москоу таймс» такую позицию русским «антизападным комплексом неполноценности».
А вот совсем недавно последний счел необходимым покаяться в собственной наивности и недальновидности на страницах той же газеты.
Ольга Трифонова поделилась своей радостью по поводу публикации в «Дружбе народов» ее романа об Эйнштейне и его русской любви:
— Всё мне неймется, но так уж случилось, что захотелось написать о любви немолодых людей, загнанных в угол обстоятельствами и временем. Я имею в виду связь Маргариты Конёнковой с разведкой. Журнал старается держаться традиций времен Сергея Баруздина. А Баруздин в 70-е годы прямо заявлял, что стремится делать его в духе «Нового мира» Твардовского… И мне вспоминается, как в совсем трудные идеологически времена я обратилась к бывшему послу Германии, ставшему представителем богатейшей компании, с просьбой помочь журналу. И он, человек совсем не вредный, сказал: «Для меня “Дружба народов” звучит как КГБ».
Но у меня ощущение, дай бог ошибочное, что журнал дышит на ладан. Их загнали в конуру, в две комнаты, принадлежавшие некогда Иностранной комиссии. И вообще во дворе Союза пахнет шашлыками и изо всех углов торчат головы поваров в колпаках, разговаривающие по мобильникам.
…Когда Бертолуччи распрощался, оставшиеся на даче заговорили о литературных новинках. Симонов сказал о недавно появившемся «Алмазном венце» Катаева: верх безнравственности и верх литературы.
Кто-то вспомнил и воспроизвел Мариетту Шагинян: «Змея, как ни повернется, все блестит».
А я, насколько знал Валентина Петровича, подумал, что такие определения скорее позабавили бы его, чем огорчили.
Незаметно переключились на Мандельштама — один из алмазов катаевского «венца».
— Тяжелый был человек. И эта стерва Надежда, которая его толкала. И он сам, то туда, то сюда.
— Но плохой характер еще не может быть основанием для…
— Ну, это разумеется, — вяло откликнулся Симонов.
— Да что вы, Александр Борисович! Какой же это Ана Кавусов? Это же Мустай Карим.
Да, это с Мустаем Каримом — живым классиком башкирской литературы, поэтом, прозаиком, драматургом — редактор «Литературки» Чаковский беседовал целый час, приняв его, к ужасу завотделом литературы братских республик (в просторечии «братишки»), за туркменского поэта Ана Кавусова.
Я, наверное, потому в свое время так скорее болезненно, чем с юмором и среагировал на этот казус, нашедший, естественно, место в Тетрадях, что сам сравнительно недавно вернулся из Уфы, куда ездил в составе небольшой бригады Комитета по Ленинским и Государственным премиям знакомиться с творчеством Мустая.
После чего написал и опубликовал эссе о нем: «Книгой, селом, театром».
Таково было троекратное явление мне автобиографической повести Мустая «Долгое, долгое детство», выдвинутой на премию.
Может, потому так и зацепила вещь, что напомнила собственное детство, годы, проведенные во время войны у бабушки и дедушки с отцовской стороны на маленьком хуторке, на берегу небольшой же речушки, в трех километрах от хрестоматийно захолустного городка, районного центра. Вроде того, вокруг которого разворачивается действие повести Мустая.
— Деньги есть — Уфа гуляем, денег нет — Чишма сидим.
Уфа, как всем известно, столица Башкирии. Чишма, о которой мало кто за пределами республики слышал до появления повести, — районный центр.
Тогда эта складно скроенная фраза позабавила, сегодня звучит алгоритмом наших дней.
Деньги есть — живем, гуляем, вплоть до покупок футбольных команд за бугром, вакханалий в Куршевеле и проч. Денег нет — в дыре, не сказать грубее, сидим. На слуху не осторожное заявление одного олигарха: «Для меня человек, у которого нет миллиарда, не существует».
У слов — долгое эхо.
Недалеко от Чишмы — деревня Кляшево, откуда родом Мустай Карим. Старое башкирское поселение среди ласковых лиственных лесов, холмов, озер и оврагов.
Своя речка, Дема, напомнившая еще и о «Детских годах Багрова-внука». Озеро, цветущая черемуха, ранняя кукушка, соловьи…
При въезде в Кляшево — колодец. Свежий сруб, брякающий железной цепью ворот, белой жести ведро. На том самом месте, где стоял колодец в повести Мустая. И надпись:
Не испив воды, не проходите мимо,
Источник здесь поэзии Карима.
Своеобразный Кастальский ключ, подающий на-гора искристую ледяную воду и… вдохновение.
Миновали пожарную каланчу, и кто-то вспомнил, что здесь проходил описанный в повести самосуд.
На кладбище — могила отца писателя: «Каримов Сафа Садыкулы. 1866—1948». Председатель колхоза сказал, что тут же недавно похоронили ровесника Мустая, тоже героя его повести и тоже фронтовика.
…От печального до смешного — один шаг . Кто-то упомянул, как в дни недавнего юбилея Карима искали вместе с автором ту высотку при въезде в село, с которой юные герои Мустая вместе с ним, спустив до колен драные штаны, показали свои белые по весне, как ситный хлеб, зады городу, который обманул их миражем калашного праздника.
Популярный, оказывается, прием.
Не взять ли и нам с них пример? Как и с того красноармейца, который, по свидетельству Сергеева-Ценского, показал супостатам-фашистам то же самое сокровенное место.
Нет, нынешнего олигарха этим, пожалуй, не проймешь.
Шагали по горбатой, с чуть прибитой утренним майским дождем пылью улице к сельской библиотеке, которая находится в одном здании со школой-восьмилеткой, а навстречу — вереница ребятишек с зелеными рюкзаками за плечами. Ведомые своей учительницей путешествуют… по местам Каримовой повести.
Коварная мысль об «организованности» такого похода на мгновение вспыхивает и тут же угасает, столь неподдельны изумление и радость детей при виде человека, чья книга сейчас в руках у их учительницы.
Тем же вечером в Башкирском драматическом театре на спектакле, который назывался так же, как повесть Карима, поймал себя на том, что, внимательно следя за происходящим на сцене, одним глазом кошу на сидящую немного впереди и сбоку средних лет женщину, скорее всего при ехавшую в столицу из района, быть может даже из Чишмы, которая, в свою очередь, все оглядывалась на Мустая Карима. Словно бы снова и снова желая убедиться, что именно этот человек, тот, которого она сейчас видит, воссоздал ее жизнь, представшую перед ней на сцене, одновременно знакомую и неузнаваемую.
Никогда еще, кажется, не приходилось лицезреть и внимать столь естественной и органичной гармонии, царящей между не избалованным вниманием извне народом и его летописцем.
Разобравшись со своими мыслями, пришел тогда к выводу, что если это был культ, то культ писателя, творца, — единственная, пожалуй, разновидность культа, за которой можно признать право на существование.
Слава, популярность, мировая известность… Все на свете относительно. Мыслящий мировыми категориями редактор всесоюзной писательской газеты путает башкирского прозаика с туркменским поэтом, а здесь…
Одна из старух, почти ровесница Младшей матери, воспетой в повести, увидев себя в телепередаче по случаю приезда гостей из Москвы, страшно перепугалась, и никак не удавалось ей втолковать, что показали ее во славу, а не в насмешку, не на позор.
Когда по радио стали говорить о вернувшемся с триумфом на родину Хомейни, старики в Уфе собрали для него деньги, кто сколько может, и принесли муфтию.
Муфтий взял деньги, положил в большой конверт и написал: «В Фонд мира».
— Почему в Фонд? — его спрашивают.
— Хомейни — он тоже за мир борется.
О мудрости муфтия говорили:
— У нас муллы подготовленнее, чем инструктора обкома партии.
Когда в Кляшеве, на Девичьей горке варили уху из свежевыловленной рыбы, Мустай, попробовав, декретировал:
— Хорошая уха. Наверное, через два улова пропустили?
Так же оценил и показавшееся мне жестковатым мясо:
— Отличное мясо, — и строго глянул в сторону гостя из Москвы. Мол, попробуй только усомниться.
Когда же гость рассказал, как Турсун-заде варил у него дома, в московской квартире плов, промолвил, обращаясь к землякам:
— Я у него в Москве дома тоже бываю.
Вроде бы и невзначай сказанная фраза, но с большим смыслом.
В общем, тот край, которому объяснился в любви Сергей Чекмарев, любимый поэт, работавший и сложивший голову там в начале тридцатых прошлого века:
У меня никогда не хватит духу —
Ни сердце, ни совесть мне не велят —
Покинуть степи, гурты, Гнедуху
И голубые глаза телят.
Сергей Чекмарев, который и в башкирской глубинке следил за литературными страстями в столице, записал в своих дневниках: «Стало модным лепить из гипса бюсты Хлебникова и бить ими по голове Маяковского».
В свое время, в поздние 50-е, странно было это читать, потому что на слуху всю мою сознательную жизнь было, что как раз бюстами Маяковского лупили, образно говоря, по головам всяких маловеров, формалистов, декадентов… Пожалуй, можно даже говорить о некоем водоразделе. До письма Лили Брик Сталину били Маяковского, после адресованной Ежову резолюции Сталина на ее письме стали бить Маяковским. Ну а сейчас? Вот привязалось это «а сейчас». Не возрастное ли? Сейчас вообще каждый бьет каждого. Чем попало и за что попало. И Маяковскому достается больше других. Выясняется, например, что Вольф Мессинг обожал Сергея Есенина и на дух не принимал Владимира Владимировича и его серпастый и молоткастый паспорт.
Все возвращается на круги своя.
…Женя Евтушенко рассказывал об очередном «прогоне» можаевского «Федора Кузькина» в Театре на Таганке, у Любимова. Их много было, этих прогонов. Я тоже побывал на одном из них и даже вклеил в одну из Тетрадей служебный пропуск, выписанный на мое имя, где вместо номеров ряда и места было написано от руки: «Кресло Любимова. 10 января 1976 года».
Все прогоны заканчивались требованиями Минкультуры либо доработать спектакль, либо вообще закрыть его. На том прогоне, о котором поведал Женя, присутствовала Фурцева. В качестве министра культуры, каковым стала после того, как попыталась вскрыть себе вены, когда на XXII съезде КПСС ее не избрали в Политбюро.
Это неугомонный и несгибаемый Любимов в ультимативной форме потребовал ее присутствия. «Чтобы покончить в конце концов с этой канителью».
Двадцать слипшихся лиц, похожих на тех, что на сцене. То есть на тех больших и малых начальничков сельско-районного масштаба, которые не дают дохнуть колхозному бедолаге Кузькину.
Евтушенко: «Опустился занавес. Собрались в кабинете Юрия Петровича. Возгласы:
— Возмутительно!..
— Зачем ерничать по поводу страданий народных?!
— Зачем ворошить прошлое?
— Текст, дайте текст посмотреть…
Словом, весь джентльменский набор. И все поглядывают на Фурцеву.
Она говорит:
— Конечно, товарищи правы, Юрий Петрович. Не все в прошлом было плохо.
Взгляд в его, Жени, сторону.
— Но не все ведь было и хорошо, — продолжала министр. И тут уже не взгляд, а прямая ссылка: — О чем правильно напомнил нам наш дорогой Женя.
Физиономии свиты застыли. Неужто ж, мол, не попали?
— Спектакль, конечно же, еще не совершенен, но он стал лучше. Пусть театр поработает. Если надо, мы соберемся еще раз. Что делать, раз уже столько вложено в эту работу. Надо и о режиссере подумать, и об авторе, об актерах, которые томятся вон за дверью.
А они действительно маялись в коридоре. На обсуждение Любимов их не пустил. Наверное, во избежание эксцессов. Тут толпа и там толпа, только разного свойства: Высоцкий, Алла Демидова, Золотухин, Гафт, Хмельницкий…
— Репетиции нельзя продолжать, пока текст не дадут, — рискнул кто-то быть святее римского папы.
— Дадут, дадут, это уж само собой, — бросила Катя укоризненно-ободряющий взгляд в сторону Любимова.
Уходя, вдруг остановилась у двери, пропустила вперед всю свою челядь и сказала так, что только Юрий Петрович да Евтушенко слышали:
— Вот видите, с кем приходится работать. А я плакала на спектакле и, чтобы не заметили, голову откидывала, слезы текли вовнутрь».
И сдается — завершил я свою запись, — что ради этих-то последних слов Женя и рассказал эту историю. А я занес ее в свои анналы.
…Юрий Трифонов рассказывал, как в пору работы над спектаклем по роману «Дом на набережной» он пригласил Юрия Любимова на дачу.
— Сидим на веранде. Обедаем. А тут целое паломничество. Это работяги, которые крышу чинят, явились:
— Валентиныч, дай на пол-литра.
Дал.
— А нам закусить нечем.
Дал им кусок колбасы. Хлеба с сыром. Ушли. Через полчаса еще пара приходит. Говорят, что из местной дачной конторы. С претензиями по поводу двух, незаконно, якобы, срубленных берез. Природу они охраняют. Намек такой: либо опять же на пол-литра отслюни, либо в суд будем подавать.
Базарят, а сами все на Любимова посматривают.
— Это кто же такой, этот седой? Где-то мы его видели.
— На Мавзолее, — невозмутимо говорит Юрий Петрович, услышав реплику.
Обалдели. Второй от растерянности спрашивает:
— А что же ты сейчас-то там не стоишь?
— Так праздника же нету, — по-свойски отвечает Любимов.
Помялись мужики и отправились восвояси, забыв и об охране окружающей среды, и о надежде на пол-литра. От греха подальше.
Любимов и в повседневном общении оставался актером. В лицах и голосах изображал обсуждения, но в запале мог пройтись по любому.
— Костя вышел на панель, — говорил он о Симонове, который дисциплинированно приходил на каждый прогон «Кузькина» и требовал его запуска.
— Костю стошнило на финише.
Артиллерия бьет по своим. Меня нисколько бы не удивило, если бы услышал нечто подобное и о себе, хотя после двух-трех рецензий о Таганке в «Комсомолке» подружились.
— Наверное, лишь тот и способен совершить что-то в жизни, кто только себя рассматривает как точку отсчета.
Министр станкостроения Борис Владимирович Бальмонт, дальний родственник поэта, без особого почтения рассуждал о своем предке. Он, мол, устарел, у него сейчас больше десятка стоящих стихов не наберешь.
Разговор был в самом начале 80-х. В Соснах, по Рублевскому шоссе.
— Но свою роль в жизни нашей семьи он все-таки сыграл. В 1938 году в списках на расстрел, поданных Сталину, была и фамилия моего отца. Сталин, наткнувшись на нее, спросил:
— К знаменитому поэту имеет отношение?
— Племянник, товарищ Сталин.
— Хороший поэт. Хорошо Шота Руставели перевел, — сказал вождь и вычеркнул племянника из расстрельного списка.
— Литература, — говорил Расул Гамзатов, — должна быть на стороне слабых, — и добавлял, что этому его учил Твардовский.
После статей об Абрамове, Трифонове, Василе Быкове, Викторе Розове, Шукшине и Распутине Расул любил повторять, явно намекая на мою казенную должность:
— У него были все условия стать плохим человеком, а он ими не воспользовался.
Однажды показал чистый, на гербовой бумаге бланк, который ему было предложено подписать. Вверху стоял гриф: «Президиум Верховного Совета СССР», а внизу — типографским шрифтом «заделанная» подпись: «Член Президиума Верховного Совета СССР Р. Гамзатов». Между двумя этими текстами сияла девственная пустота.
— Вот как большие государственные задачи решаем, — сказал он и, вздохнув, подписал бумагу шариковой ручкой.
Тех его друзей, которые приходили навестить его в московской квартире на улице Горького или в отдельной палате в «кремлевке», Расул встречал хрестоматийной фразой:
— Пора поправить пошатнувшееся здоровье, — и независимо от часа дня или ночи наливал гостю граненый стакан коньяка. Если дома — из собственной бутылки, которых у него был целый шкаф. Если в больнице — то из бутылки гостя, которую тот был обязан принести, точнее, пронести. Так, чтобы не заметили ни медики, ни главный цензор, то бишь цербер, — Патимат, супруга Расула.
Патимат звали мать Расула и одну из его дочерей.
— Я Патиматик, — говорил Расул. — У меня жена Патимат, мать Патимат, дочка Патимат. Я — Патиматик.
Обилие взрывных П делало его речь похожей на пыхтение.
Он обожал свою жену и дочерей, но мог прилюдно припасть на колено перед моей женой, которая заведовала отделом братских литератур («братишек») в «Литературке»:
— Богиня, почему разговариваешь со мной так, словно ты все мои стихи написала?!
Как-то в разогретом, как обычно, состоянии он нагрянул к нам домой без предупреждения и, застав там Олеся Гончара, тут же предъявил претензии хозяину:
— Зачем таких людей приглашаешь?
Улучив минутку, я заметил сопровождавшему Расула его соотечественнику, которого тот назвал своим мюридом, что надо бы все-таки оберегать здоровье и жизнь знатного соотечественника. Мюрид реагировал самым неожиданным образом:
— А зачем великому поэту долго жить? Все, что надо было, он уже написал.
Через несколько минут, словно бы подслушав этот обмен мнениями, Расул сказал, наполняя круглый стакан неизменным «Дагестаном»:
— Пить — единственный способ сопротивления окружающей среде.
Когда навестил его уже в постсоветский период — при ехал на машине в Махачкалу из Грозного, где присутствовал в качестве международного наблюдателя на выборах президента Чеченской Республики, — мой старший друг и этой возможности лишился. По случаю болезни Паркинсона.
Непьющий Расул был уже не Расул. И он сам понимал это.
А скоро настал и для него тот день, когда «и с журавлиной стаей…»
Критики в прозе…
Мир облетел полуминутный клип с Обамой, который на виду у телекамер сначала отмахивается от залетевшей в Овальный кабинет мухи, а потом начинает охотиться на нее, кажется даже успешно. Это зрелище, конечно, не обошел вниманием Александр Проханов, создавший на основе него фантасмагорическую концепцию взаимоотношений западного лидера с окружающей средой… Прочитал это в газете «Завтра» и забыл. Пока не обнаружил, что актуальная тема охоты на мух уже поднималась на высшем уровне много раньше. Наткнулся в Интернете на стенограмму беседы Сталина и его коллег с Сергеем Эйзенштейном и Николаем Черкасовым по поводу второй серии фильма «Иван Грозный». Дело было в феврале 1947 года. Как известно, эта лента вождю категорически не понравилась, чему удивляться не приходилось, и фильм был закрыт. Закрытие фильма, спектакля, рассыпка набора, вето цензуры и проч. было самым веским аргументом в творческих и научных дискуссиях тех времен. Зато от первой серии вождь был в восторге и соответственно другие члены Политбюро.
Сталин — в беседе с Эйзенштейном и Черкасовым в феврале 1947 года по поводу второй серии «Ивана Грозного»: «Курбский великолепен. Очень хорош Старицкий (артист Кадочников). Он очень хорошо ловит мух. Тоже: будущий царь, а ловит руками мух! Такие детали нужно давать. Они вскрывают сущность человека…»
Подстегнутые примером вождя в беседу вступают другие лидеры, и обмен мнениями окончательно принимает трагикомический характер: «Жданов говорит, что Эйзенштейн увлекается тенями (что отвлекает зрителя от действия) и бородой Грозного, что Грозный слишком часто поднимает голову, чтобы было видно его бороду.
Эйзенштейн обещает в будущем бороду Грозного укоротить.
Читатели газеты «Завтра» со стенограммой заседания Политбюро вряд ли были знакомы, но на статью ее популярного главного редактора не замедлили откликнуться:
— Дай Бог , чтобы Обама каждый месяц убивал по мухе. Мы будем чаще смеяться, а там, глядишь, и народ задумается. И не только народ. Глядишь, и перестанут с «Авроры» в воду прыгать…
— Ну что я могу сказать, ничего удивительного в этом нет. После перестройки этой треклятой даже из убийства мухи делают комедию.
Да… подоплека явная видна, —
Из мухи сделали Слона!
— Пока мы смеемся — мы непобедимы.
В Москве вторую серию «Ивана Грозного» запретил Сталин. В Голливуде фильм был целиком занесен в черные списки. Чарли Чаплин еще при жизни Сталина послал Николаю Черкасову, исполнившему роль тирана, письмо с выражением сочувствия и солидарности. После 1956 года великий актер испытал отторжение просвещенной общественности как «любимчик Сталина».
…В одну из нечастых поездок в Ленинград побывал в Пушкинском Доме, где в первую очередь задали загадку: как Блок, который посвятил этому учреждению одно из своих последних стихотворений, мог «тихо кланяться» ему с «белой площади Сената», если Пушкинский Дом расположен в здании бывшей морской таможни на стрелке Васильевского острова?
Правильный ответ: «Это он сейчас на Стрелке, а во времена Блока был на той стороне Невы, в здании бывшей Академии художеств».
И как мог пушкинский Евгений, сидя на «льве сторожевом», видеть памятник Петру Первому: «Ужо тебе…»
В то время не было тех деревьев, которые теперь загораживают памятник.
«Хрестоматия, — записал тогда, — а создает эффект присутствия».
Из реликвий, показанных в Пушкинском Доме, две произвели особое впечатление: тетради Пушкина, которые приоткрыли «технологию» творчества поэта, и… дневник мальчика Степанова, которому посчастливилось в детстве пообщаться с Гончаровым и Тургеневым.
Всего таких пушкинских тетрадей, если я правильно запомнил, двадцать одна. Я смотрел «Полтавскую».
На левых страницах у поэта, как правило, чистый текст. Справа тот же текст весь исчеркан. И на следующей левой странице — исправленное в чистом виде, а на правой оно вновь подвергнуто экзекуции.
В результате, листая страницы, видишь, как рождаются, видоизменяются и движутся к совершенству гениальные замыслы.
Начинаешь понимать, что процесс творчества у Пушкина — это магия, волховство. Вот уж поистине:
Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю…
В альбоме мальчика Степанова, подаренном ему матерью, Гончаров и Тургенев, полемизируя друг с другом, отвечают на вопрос подростка: как читать?
По мнению Тургенева, до пятнадцати лет читать надо только хорошее и ничего из запретного. А потом, заложив нравственную основу, читать все подряд.
Гончаров, не скрывая иронии по поводу тургеневских рекомендаций, утверждает в свою очередь, что с самого начала надо читать все подряд. Все, что хочется и читается. И так до тридцати лет, потому что потом и самому что-то написать надо. А потом многое вообще не будет восприниматься. И так с постепенным и вынужденным сокращением аж до ста лет, когда надо будет долго соображать, что вообще означает слово «читать».
Тут же пожелание хозяину альбома, написанное Иннокентием Анненским:
Служить и не осквернять мундира
Ни орденами, ни крестом.
Не в этой ли связи муниципальные чиновники из-под Самары выдвинули предложение завести для госслужащих мундиры, погоны и шевроны?
Рассказали, как Анненский спас памятник Пушкинулицеисту, созданный скульптором Блохом. Когда памятник открывали в садике лицея, очередной великий князь, представлявший двор, сказал, что скульптура темновата, хорошо бы покрасить ее в белый цвет. Воцарившееся неловкое молчание прервал поэт, в ту пору директор Лицея, сказав, что лучше это сделать с садовыми скамейками, стоящими вокруг . Князь, говорят, оценил его деликатность. А скамейки так и белеют до сих пор.
Прочитав это снова в Тетрадях после стольких лет, вспомнил опять посещение Сусловым бывшей школы, ставшей офисом ВААП, а в дни выборов в Верховный Совет служившей избирательным участком.
— Почему снег грязный? — допытывался глава охраны члена Политбюро, прибывший на «объект» заблаговременно.
…Как-то гуляли с Константином Симоновым по больничному парку на Воробьевых горах и рассуждали на те же пресловутые темы, которые в позднюю советскую пору немедленно возникали в любой компании более или менее мыслящих персонажей. Константин Михайлович показал на светящиеся окна — дело было к вечеру — многоэтажной больницы, и сказал, как о чемто давно продуманном:
— Да вот из временных обитателей этого богоспасаемого учреждения можно было бы завтра же сформировать две партии, и они бы отличались друг от друга не меньше, чем демократы и республиканцы в США или консерваторы и лейбористы в Великобритании.
Что-то в этом же духе слышал много раньше от Ильи Эренбурга, и не наедине, а во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1957 году.
Мэтр выступал перед разноплеменной студенческой ауди торией, собравшейся в Актовом зале МГУ:
— Вы успели, думаю, заметить, что неправда, будто все мы думаем и чувствуем одинаково. Мы просто все считаем, что социализм лучше капитализма и мир лучше войны. Но в области культуры у нас есть разные точки зрения. Тут нельзя прийти к общему знаменателю даже под влиянием самых авторитетных органов. Лифт в гостинице «Ленинградская» — готика в понимании человека, который готику не понимает, — проиллюстрировал мастер свою мысль под одобрительный смех аудитории.
И как у него часто это случалось, тут же обратился к другой стороне монеты:
— К сожалению, абстрактное искусство изобрели действительно мы.
Смех.
Не без удовольствия процитировал он кумира тогдашней читающей публики Трумена Капоте, ровесника «битников», который заметил о них: «Им нечего сказать, в довершение всего они не умеют ничего сказать».
А обратившись к битникам, так сказать доморощенным, добавил под скорее недоуменный, чем одобрительный гул:
— Беда не в том, что персонажи авторов издеваются над «топорно мыслящими». Беда в том, что они сами не мыслят. По крайней мере, их герои.
Надо было обладать Эренбурговой уверенностью в себе, чтобы сказать такое в те дни да еще студентам.
Отряженный редколлегией в МГУ, я умудрился записать речь Ильи Лохматого чуть ли не дословно, после чего счастливо дозвонился до оратора и, почти не способный поверить, что получил согласие на встречу, помчался в Новый Иерусалим на специально выделенной редакционной машине визировать текст. О недоступности Эренбурга для журналистов ходили легенды.
Просидел с ним рядом целый час и, следя за небрежными движениями его карандаша, чувствовал себя начинающим поэтом, чьи стихи читает живой классик. Аж дух захватило, когда хозяин вернул стопку машинописных страниц почти без правки. От радости и желания как можно скорее сдать текст в набор, даже не догадался завязать разговор с живым классиком, тем более взять интервью. Да и по сторонам смотреть, пока тот читал собственный текст, стеснялся. Только и запомнилось, что в просторном и cветлом, продуваемом сквознячком доме было полно кошек, которые, как прихожанки в церкви, соблюдая очередь, подходили приложиться к ручке, то бишь к тапкам хозяина.
Тогда же, из солидарности с Мастером, занес в Тетради, теперь уж не вспомнить, свое или услышанное: «Глядя на иных спорщиков, думаешь, что у них нет взглядов, а есть только различия в них», «Цинизм всегда отвратителен, но одно дело — цинизм выстраданный, другое дело — заемный», «Не люблю людей, которые остервенело проповедуют добро».
И тут же воспроизвел кого-то из великих, кажется Бенджамина Франклина: «Если правда без любви, это неправда».
Чуть ли не в ту же пору и в том же Новом Иерусалиме посетили Эренбурга Аксенов со товарищи. Прочитав в посмертно вышедшем романе Василия Павловича, как к нему, Эренбургу, «на ночь глядя… вперлась молодая богема… как полночи сидели и сотрясали устои, пока его чуткий колли не захрапел под столом», пожалел о собственной деликатности. Ведь о стольком хотелось расспросить ставшего живой и драгоценной реликвией времени Мастера, оказавшись по воле счастливого случая в его «приюте спокойствия, трудов и вдохновения».
Места обитания знаковых личностей всегда обладали для меня особой притягательной силой.
В Михайловском, быть может под влиянием Гейченко, впервые в жизни физически ощутил присутствие того, другого мира. Но принадлежал он не Богу, а гению, кто бы ни сотворил его самого.
С годами убедился, что созданный воображением художника мир становится реальней самой действительности. Сидя в Тригорском на скамье Онегина, его и Татьяну в минуты их бурного объяснения представляешь себе четче, чем самого Пушкина с Алиной или Осиповой- старшей.
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви…
Такое же чувство посетило в Пятигорске.
Лермонтов пробыл в Пятигорске в зрелые свои годы всего несколько месяцев, герои же его живут здесь уже второе столетие, и каждому, кто придет, например, к Академическому источнику, непременно скажут, что это вот тот самый Елизаветинский источник, или колодец, как называл его Печорин, где он увидел княжну Мери, а рядом с нею интересно бледного, томного Грушницкого в солдатской шинели, когда она «легче птички к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести».
Описанный Лермонтовым грот, где Печорин встретил Веру, нарекают Печоринским, и это место становится популярнее того «Грота искусств», где уже не герои его, а сам Лермонтов устроил дружескую пирушку за неделю до дуэли и смерти.
То же можно сказать и о бульваре, к которому спустилась княжна Мери, об одном из лучших домов Пятигорска, «в ворота которого она вбежала».
И хотя на бульваре есть другие исторические реликвии, связанные с жизнью и деятельностью памятных лиц, на это обратишь внимание не прежде, чем «с трепетом неизъяснимым» пройдешь и остановишься перед печоринскими местами.
Дом «Пиковой дамы» на бывшей Малой Морской, ныне улице Гоголя в Санкт-Петербурге, расположенный по какой-то прихоти судьбы напротив того дома, где умер Чайковский; дом, где Раскольников совершил свое оставшееся в веках преступление… Сколько их, этих примет второго мира, творимого искусством. Калина красная, растущая на могиле Василия Шукшина.
Не есть ли это то самое «четвертое измерение», о котором спорит ученый мир? Та самая «другая жизнь», творить которую дано лишь счастливцам, избранникам?.. И счастливы-то они особым счастьем, не соприкасающимся с тем, что люди подразумевают под благополучной жизнью.
Разогнавшееся воображение подсказало примеры из того рода литературы, которому сам отдал дань. Литературная критика. Она рождает понятия, которые становятся образами и «обрекают» объект анализа на долгожительство.
Гончаров создал Обломова, а Добролюбов увековечил обломовщину. Тургенев написал «Асю», рассказ, быть может, и не самый выдающийся в его творчестве. Сказав о его герое: «Русский человек на рандеву», Чернышевский дал обозначение целому историкопсихологическому типу русского человека, дворянина. И рассказу обеспечил бессмертие.
Ближе к нашим дням. Леонов создал Грацианского, а критик Марк Щеглов — грацианщину. У Шукшина один рассказ называется «Чудики». Критик назвал свою статью «Василий Шукшин и его чудики», и с тех пор слово это стало нарицательным для всех героев этого ни с кем не сравнимого прозаика…
«Человек преображает искусством жизнь, а время превращает жизнь в искусство», — продолжал формулировать про себя, находя в полузабытых Тетрадях новые и новые подтверждения тезиса. Теперь нашли этому название — артефакт. Может, и не теперь, а много раньше, но у нас это слово стало ходовым в последние годы.
В Будапеште всем показывают откопанные археологами развалины древнего, еще со времен римского владычества, поселения. Паннония. Гунны. Глядя на остатки этих почтенных стен, не Парфенон, не Колизей, не лабиринт Крита, начинаешь понимать, что самый великий художник, тот, что не знает фиаско, — это время, которое походя творит чудо из продукта самого обыкновенного человеческого труда. Грубая кладка, слегка обтесанные безвестными рабочими и припудренные вечностью глыбы камня местного происхождения, сохранились, простояв то ли пятнадцать, то ли девятнадцать веков, в то время как прошумели и стерлись из памяти столько художественных творений, имеющих своих авторов, свою историю, свои годы славы…
В Брно, в музее на центральной площади под открытым небом, выставлено на всеобщее обозрение тележное колесо, сделанное пятьсот лет назад. Кто-то из колесников, живущих поодаль от города, на спор, за сутки, срубил дерево, согнул из него колесо и сам прикатил его в город дорогой длиною в десяток верст. В знак уважения колесо было выставлено на главной площади и до сих пор стоит там.
В одном из старых замков в Румынии показали колодец, вырытый несколько веков назад и до сих пор снабжающий ледяной пресной водой расположившийся здесь монастырь, каким-то чудом не тронутый послевоенной властью.
Колодец вырыли два пленных турка, которым было обещано, что, когда они найдут воду, их отпустят на волю. Они трудились пятнадцать лет, гласит предание, нашли воду, но на волю их не отпустили. И тогда на камне они выбили надпись, сохраняющуюся уже несколько столетий: «Вода у вас есть, души у вас нет».
С чем это сравнить? Может, только с фрагментом из того фильма, который однажды видел в Доме кино. Дальше закрытых просмотров его не пустили. Раненный смертельно китайский студент-диссидент ползет по снегу, истекая кровью, и пишет всем телом: «Я люблю родину, но родина не любит меня».
И сейчас уже не узнаешь, было такое на самом деле или создано благословенным воображением художника.
Лет десять, а может, и больше назад вдруг зазвучали у нас в литературе, кино и театре трубы. Вспоминаю увиденный по телевидению короткий, чуть ли не одночастевый документальный фильм «По городу идет оркестр», все содержание которого как раз и сводится к его названию: идет по городу духовой оркестр и исполняет какой-то старинный лирический марш. Бегут за оркестром дети, выглядывают из окон привлеченные непривычными звуками люди всех возрастов… Было бы это на самом деле, у меня под окнами, а не в кино, выскочил бы и вместе с пацанами зашагал бы за трубачами.
Тут же вспомнилась серебряного звука труба в спектакле Эфроса «Снимается кино» в Театре Ленинского комсомола. Пьеса Радзинского.
С трубой появляется Смоктуновский в «Романсе о влюбленных».
Это только самые известные примеры, а сколько этих труб, и саксофонов, и кларнетов, и фаготов, и валторн, и рожков пело на экранах, подмостках и живьем… Что-то, видно, было в воздухе шестидесятых, что заставляло их звучать.
А вышло все, как литература — из гоголевской «Шинели», из баллады Окуджавы «Свободы маленький оркестрик»:
Свободы маленький оркестрик
Под управлением любви.
Да Булат просто одержим был трубными звуками:
Ах, оркестры духовые,
Голоса победные…
И главное:
Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,
Пусть ее подхватят следом и другие трубачи…
То самое стихотворение, где вспыхивают невообразимой доброты и мудрости строки:
Нам не стоит этой темени бояться,
Но счастливыми не будем притворяться.
Оттепель. Слово это стало паролем, эмблемой всего, что возникло после смерти Сталина. И связываем мы это определение с именем Ильи Эренбурга и названием его повести, появившейся в 1954 году, за два года до XX съезда КПСС. Но, как недавно обратил на это внимание один историк литературы, кажется Сергей Чупринин, — уже в октябрьском номере «Нового мира» за 1953 год, который тогда редактировал Твардовский, было опубликовано стихотворение с тем же названием бывшего узника ГУЛАГА Николая Заболоцкого:
Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели
И потемнели снега.
И дальше:
Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля,
Неизмеримой работой
Занята снова земля.
И не было, отмечает тот же литературовед, в ту пору какого-либо заметного произведения, где не доминировало бы слово «весна». Валентин Овечкин писал о «трудной весне», Леонид Мартынов провозглашал: «Я чую наступленье марта», тот же Булат Окуджава объявлял себя «дежурным по апрелю», а Роберт Рождественский предрекал:
Скоро,
Скоро!
Скоро!!
Вы слышите? —
Скоро
Птицы грянут звонким обвалом,
Растворятся,
Сгинут туманы…
Вспомнилось и другое, уже ближе к нашим дням. Вдруг появился обостренный интерес к Дон Кихоту — и сервантесовскому, и несервантесовскому… Особенно в театре и кино. Тут тебе и Бузыкин из «Осеннего марафона», и Илья Семенович из «Доживем до понедельника», баталовский Митя в «Девяти днях» Ромма, учитель Колдуэлл из «Кентавра» Апдайка, Дюйшен Чингиза Айтматова, ну и так далее.
А потом вдруг мода на лошадей. И в литературе, и в кино, и в театре. Началось с «Гюльсары» Айтматова, переметнулось на толстовского «Холстомера», который обрел свою вторую жизнь на сцене товстоноговского БДТ с Евгением Лебедевым в роли коняги, а там и целый табун менее выразительных кобыл, жеребцов, меринов двинулся на театральные подмостки и в издательства.
И так дороги, видно, были эти скакуны, рысаки и тягловая сила их создателям, что восходящая театральная звезда тех лет Марк Розовский спустя чуть ли не полвека завел с покойным Товстоноговым спор об авторском праве на толстовского «Холстомера», с которым разбираться досталось в свое время ВААПу.
Страницам с «критиками в прозе» не было еще видно конца.
Короткое, в одну строку, посвящение на обложке тоненькой книжки стихов — такому-то с особой благодарностью за «Корчевскую», напомнило сразу и об авторе ее, Анатолии Ковалеве и о… Герцене, и о кузине Герцена, которой была посвящена в книге поэма «Корчевская кузина» — первая и, кажется, последняя в творчестве начинающего поэта, шагнувшего между тем в седьмое уже десятилетие. А Герцен не дожил и до шестидесяти, хотя по портретам всегда представлялся глубоким стариком.
Впервые соприкоснулся с Ковалевым после того, как оба в один и тот же день были переправлены из ЦКБ, где я перенес операцию на позвоночнике (упал с лошади, снова лошадь), а Анатолий избавлялся от стенокардии, в санаторий имени Герцена, «герценке», как величали это, такое же, как и ЦКБ, режимное заведение Четвертого главного управления Минздрава, каковое, в свою очередь, в разговорах по старинке называли, как и при Сталине, «кремлевкой».
Первым же человеком, который встретился на прогулочной дорожке, был… Жаров, Михаил Иванович, любимый актер.
Но что с ним стало? Худоба скелета, которую только подчеркивает его высокий рост. Но самое пугающее — перекошенное, видимо, от инсульта лицо. В больничной робе. Но по-прежнему общительный. Доносится фраза, видимо, венчающая тему:
— А сколько выпито было, один только Бог знает и подсчитывает.
— А сейчас сколько-нибудь позволяете, Михаил Иванович? — Вопрос собеседника в такой же робе.
Жаров наставил на него выпученный глаз, как погасший прожектор:
— Сейчас нет, сейчас ни-ни.
Палата моя на втором этаже. На первом кто-то заново, тоже, видимо, после удара, учился говорить, и казалось, что это гудит гигантский шмель:
— У-у-ууууу, о-о-ооо, а-у-уууууу…
Согласных слышно не было.
По странному совпадению по телевидению показывали цирк. Дрессировщик говорит морскому котику:
— Скажи о-о-ооо.
И тот говорит:
— О-о-у — о-уоо, — то есть то же самое, что мой сосед внизу.
И словно бы в напоминание, что жизнь все же не кончается, восторженный голос мальчишки лет десяти, который, глядя вслед рыбаку, идущему по берегу Москвыреки с куканом в одной руке и наметкой в другой, во весь голос делится впечатлением с приятелем:
— У щурят рожи — во-оооо!!!
Заглянув в первый же день после водворения в библиотеку, услышал, что кто-то спрашивает Гоголя. Оглянулся машинально на этот «непростой для сердца звук».
Спрашивал, судя по фирменной куртке, такой же, как и я, пациент, а ответил библиотекарь, показав на самую верхнюю полку над своим креслом:
— Там он, во внутреннем ряду.
— Далеконько вы его поставили.
— А у нас его не часто спрашивают.
Мы понимающе переглянулись с незнакомцем и, выйдя из читального зала, направились в столовую почти единомышленниками. Здесь попросили, чтобы нас посадили за один стол, благо оба только что прибыли, и, лишь расправившись с поданным на закуску салатом, представились друг другу.
Через пару часов после обеда я встретил нового знакомого на дорожках санаторного парка. Он шел к воротам встречать жену и многозначительно пригласил заглянуть к нему в палату. Примерно через полчасика. Принимая во внимание появление супруги, я не видел в этой акции особого смысла, но отказываться посчитал неудобным. Оказалось, однако, что супруга нового знакомого — Ирина, с мальчишеской стрижкой седых волос, длинными и стройными не по возрасту ногами и такой же анахронически осиной талией, — свой в доску парень.
Когда привезенный ею арбуз был съеден, а бутылка кальвадоса, всколыхнувшая воспоминания о «Трех товарищах» Ремарка — настольная когда-то книга, — выпита до дна под рассказы хозяев об их многочисленных болезнях, которые не позволяют и капли спиртного в рот взять, Гаврилыч, как звала супруга Ирина, как-то виновато улыбаясь, сообщил, что вообще-то он мидовец, но в дипломатии случайно. До войны учился в ИФЛИ, после войны как-то попал в офицеры Контрольной комиссии по Германии, откуда его и командировали сначала в Высшую партшколу, а оттуда в МИД.
— Но хоть и стал чиновником, стихи писать не перестал, — многообещающе заключил свою автобиографическую справку высокопоставленный работник МИДа, заместитель министра, и начал что-то шарить в тумбочке у постели.
«Вот оно что», — похолодел я и, невольно бросив взгляд на дверь, в створ которой Ирина как бы ненароком поставила свой стул, понял, что сбежать ни под каким предлогом уже не удастся.
Дальнейшее, однако, ничем не напоминало продолжение плохого юмористического рассказа, потому что стихи на слух были вполне на уровне, а о возможной публикации их в газете Гаврилыч даже не заикнулся…
Скромность или дипломатический маневр?
Сюжет с бутылкой, всегда о сорока градусах, и чтением стихов повторялся потом раз в неделю в связи с каждым появлением Ирины. А накануне отъезда Гаврилыч даже прочитал наброски начатой в этих герценовских местах маленькой поэмы, которая называлась «Корчевская кузина».
Санаторий Герцена… Старинное русское село Васильевское к юго-западу от Москвы. Знаменитое тем, что здесь некогда была усадьба отца Герцена — Яковлева.
Водворившись в санатории, я, конечно же, первым делом взялся за любимые с нежного возраста «Былое и думы», а в них, в первых главах, бросились в глаза название села, где проходили летние каникулы маленького Саши, и имя подруги его детских игр, Татьяны Пассек.
Эта маленькая главка служила теперь путеводителем в странствиях по герценовским пенатам. Не уставал дивиться тому, как же мало, в сущности, изменилось с тех пор, когда, подобно тебе, бродил тут будущий создатель «Колокола».
И в Тетрадях своих, еще до того, как взял снова в руки «Былое и думы» — освежить воспоминания, описал эти места чуть ли не теми же словами, что за полтораста лет до этого будущий Искандер.
Мое: «Село это или то, что еще от него осталось с юных герценовских лет, вальяжно раскинулось по обе стороны Москвы-реки. Один берег крутой, высокий, обрывистый. На верхотуре во времена молодого Герцена как раз и стоял построенный его отцом новый дом, на месте которого теперь расположился реабилитационный центр.
Другой берег — пологий, с полуразрушенным ныне зданием церкви, с чудом сохранившимися остатками двухсотлетней липовой аллеи и развалинами господского дома. По аллее, говорят, гулял молодой Саша, ухаживая за дальней родственницей Татьяной Пассек, которую в “Былом и думах” называл “корчевской кузиной”. А мы бы теперь назвали тургеневской девушкой».
У Герцена: «Я мало видал мест изящнее Васильевского. На отлогой стороне — село, церковь и старый господский дом.
По другую сторону — гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом… Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху. И смотрел, и слушал, и дышал.
При всем том мне жаль было старый каменный дом… я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему; и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая стройная береза».
Смотрел на эти места глазами Герцена и его юной подруги и налюбоваться не мог . С крутого, высокого смотришь сверху вниз и вдаль. Обзор значительно шире, но предметы кажутся как в перевернутом бинокле — и меньше, и дальше от тебя.
С противоположного берега смотришь поневоле перед собой, даже немного вверх, и перед глазами только круто взбежавший наверх холм, увенчанный зданием санатория. И как будто бы осязаешь фактуру и этого поросшего кустарником берега, и гигантских сосен, растущих на обрыве. Вполне возможно, что в юности своей они видели мальчика Сашу и его кузину.
За окном палаты, выходящим на берег , с рассвета идет работа. Дятлы — один стучит носом, выдавая очередь за очередью свою деревянную песню, как назвал это Вася Песков из «Комсомолки», другой — цикает. Белка перебежками, словно боец в атаке, перекочевывает от дерева к дереву по земле — в большой лес. И все пространство заполняет невообразимый птичий гомон.
Не мог не поделиться этими своими впечатлениями с вновь обретенным другом, который в полной мере разделял щекочущую радость узнавания.
И когда через год получил от него с посвящением книжку с поэмой, испытал эту радость еще раз. Образ Татьяны Петровны Пассек, завладев воображением автора, высек из него такие строки, к которым возвращаться — все равно что по Васильевскому еще и еще раз пройти вместе с Герценом и его кузиной. Не случайно многие из них теперь нашел в своих Тетрадях.
Свидания с «корчевской кузиной» расковали стеснительного не по возрасту и казенному положению поэта, и удалось уговорить его показать что-то из своего творчества профессионалам — Константину Симонову и Егору Исаеву, а там и отдать тетрадочку с рифмованными строчками рекомендованному ими издательству.
На обнародованные строки потекли к новоявленному поэту, как пчелы за взяткой, композиторы: Раймонд Паулс, Оскар Фельцман…
Ветра касаньем
Мы рождены,
В нас мирозданья
Отражены.
Мы же частица
Того, что есть,
Что дышит, искрится
И просится в песнь.
В 60-е годы привычным стало, что стихотворцы живут и действуют по принципу: эту песню не задушишь, не убьешь.
Застенчивый поэт — редкость, исключение. Но такой феномен еще дважды повстречался мне на пути.
Десять лет проработали с Юрием Вороновым в одной газете. Но когда тому пришло время уходить, а мне — сменить его на посту Главного, он поздним вечером, в час ожидания сигнального номера, к которому бывший Главный уже не имел отношения, открыл дверь в свой бывший кабинет и бросил на письменный стол, так что рассыпались веером, десятка два покрытых машинописью листков, тех, что теперь принято именовать А4.
— Что это? — спросил.
— Стихи.
— Чьи?
— Мои.
— ?!
В этой стопке уже были строки, которые стали паролем поколения мальчишек и девчонок войны:
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом — паспорта.
Так, с первой подборки стихов, опубликованных через несколько дней в газете с многомиллионным тиражом, ракетой взмыла слава еще одного позднего ребенка поэзии.
Восхождение на Парнас Новеллы Матвеевой было еще удивительнее и неожиданнее.
Давным-давно это случилось. Наверное, поздним 63-м. Лен Карпинский, тогда еще секретарь ЦК ВЛКСМ по пропаганде — сейчас от такого названия скулы может свести, — переслал с нарочным главному редактору Юре Воронову пачку от руки исписанных страниц, которые как раз и оказались стихами Новеллы Матвеевой, чье имя никому еще ничего не говорило…
Имя не говорило, а стихи сказали, и даже очень. Ктото из отдела литературы был отряжен поехать к автору домой и, возвратившись, с некоторой оторопью рассказывал о том, что увидел: убогая комната в коммунальной квартире, «берлога, а не жилье», и открывшая дверь болезненного вида женщина в затрапезе, в которой просто рискованно было признать с ходу создателя столь блестящих стихов. Юра Воронов, сам поэт, чего, впрочем, тогда никто не подозревал, даже подумывал о какой-нибудь экспертизе. Но, поговорив с Леном, произнес свое сакраментальное:
— Меня это не смущает.
Целая газетная полоса в «Комсомолке», тираж в несколько миллионов экземпляров. Запало о Рембрандте: «Он был королем светотени».
В Тетради из цикла перекочевало и такое четверостишие:
Простой советский молот
Упал на лунный серп.
Какие силы могут
Разрушить этот герб?!
Новелла стала знаменитой в одну ночь. Что это означает и как это бывает, самому довелось понять и пережить много позднее, но по другому, политическому поводу.
Местом следующей публикации стихов Новеллы стала уже «Юность», и вскоре поэтесса пополнила ряды ее постоянных авторов, а на эстраде присоединилась к трем мушкетерам и их некоронованному главе Булату. Особенно после того, как взяла в руки гитару. Перенесенное в Тетради четверостишие, посвященное успешному запуску лунника с Байконура, уже не встречал более в печати, и вообще, открытая «Комсомолкой» поэтесса далеко и, казалось, навсегда ушла от столь лаконично выраженного в нем совпатриотического чувства.
«Но не оно ли вновь заговорило в ней?» — спросил себя, вспомнив еще одну, в прозе, публикацию поэтессы, появившуюся уже после распада СССР.
Этому тексту тоже не дал уйти и быть забытым. Практически без сокращений перенес весь кусок в свои скрижали. В этом смысле дело упростилось. Не надо уже ничего ни переписывать, ни перепечатывать, ни вклеивать и т. д. Кликнул мышкой, высветлил, еще раз кликнул, перенес…
«Единственный вечер поэзии, в котором одновременно участвовали Булат Окуджава и я (Новелла. — Авт.), состоялся в ЦДЛ в декабре 1964 года. Кажется, Булат Шалвович успел спросить у меня за кулисами, буду ли я петь. “Я не взяла с собой гитару, на вашу надеялась”, — ответила я. “А я — на вашу. И тоже не взял”, — отозвался он.
Смех смехом, а вообще-то климат был слишком суров для расцвета новых песен. И пробивались они изпод снегов (с отчаянностью подснежников!) не только благодаря первой оттепели, но и вопреки последним заморозкам. Теперь ни для кого уже не секрет, что и самого дежурного по апрелю Булата Окуджаву старались держать в зимней строгости разные администраторы… Булат Шалвович держался очень свободно и непринужденно, а в то же время был в отношениях с публикой настороже; на ее вопросы отвечал так, словно ни по какой статье ей не верил. Реплик, по-настоящему каверзных, из зала поступило ему в общем немного — не более двух штук, по-моему. Но поэт и на некаверзные отвечал остро и с непременным подчеркиванием своей независимости. Даже могло показаться, что говорит он не с публикой, но с кем-то, кто прятался за ее спиной…»
Удивительно точно подмечено Новеллой — размышлял, перечитывая эти строки, — типичное, можно сказать, душевное состояние одного из, а точнее, самого выдающегося из «поэтов-эстрадников», которого всегда принимал всего, от первых до последних слов, точек, запятых и звуков.
Если Евтушенко, Вознесенского и «примкнувшему к ним» Роберта Рождественского трактовать как трех мушкетеров, Булата Окуджаву вполне можно поименовать д’Артаньяном, хотя в отличие от героя Дюма он был и по возрасту старше своих сотоварищей.
И в 60-е, и в 70-е его песню «И комиссары в пыльных шлемах» вовсю распевала фрондирующая молодежь, которая вместе с Хрущевым отвергала Сталина, но идеалом человека долго еще видела красных конников и моряков-балтийцев времен революции и Гражданской войны. Заодно с Лениным. Но пришло время, а конкретно говоря, горбачевская перестройка, и экспансивные завсегдатаи «кухонь», приравненных раскрепощенными советскими СМИ чуть ли не к лондонскому Гайд-парку, выставили вольному барду счет.
«Моцарт отечества не выбирает». В этих словах неприятие собственного выбора услышала эмиграция последней волны.
«Удар по своим», — знакомо шелестела волна, которую чутко уловила Новелла Матвеева, повторив вслед за автором и обращаясь к нему:
Не обращайте вниманья, маэстро,
Не убирайте ладони со лба.
«…И эта песня, нынче некоторыми людьми так сурово порицаемая (за то, что они, люди, переменились, а она за ними не поспела), кажется мне сегодня такой же честной, какой была вчера:
И комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.
Нельзя, чтоб комиссары? Нельзя, чтоб в пыльных? Нельзя, чтобы склонялись, а надо, чтобы так бросили? Господи! Как все это напоминает мне ведущего на той далекой эстраде! Ведущего, которому — “чтобы никаких гитар и никаких песен”! Только вот амплуа у ведущих теперь новое, “а предрассудки стары!”».
Да, нельзя. На экране я высветлил извлечение из вышедшей в 2004 году книги переехавшего в Израиль Юрия Щеглова «Еврейский камень, или Собачья жизнь Ильи Эренбурга»:
«Миф о комиссарах, о их самоотверженности и благородном влиянии на бойцов оказался живуч, перетянул вой ну и еще в 60-е годы проникал во всякие художественные поделки, поддерживая репутацию ангелов в пыльных шлемах…
Последней вспышкой явился унылый фильм Аскольдова, пролежавший на полке лет двадцать… Фильм запретили вовсе не из-за комиссарства, а из-за довольно трогательных образов евреев».
Какой уж раз довелось подивиться превратностям судьбы: тех, кто в советские времена положил фильм «Комиссар» на полку, не устраивало, что там портнойеврей показан хорошим человеком. Нынешних критиков «унылого фильма» задевает то, что комиссар в юбке выглядит человеком.
С обеих сторон досталось Аскольдову, а мне так и от него. Во второй половине 80-х он привез свой снятый наконец с полки фильм в Швецию… До премьеры в одном из стокгольмских кинотеатров показал его в посольстве. За чаем я не скупясь похвалил фильм и неосторожно удивился, что, собственно, такого запретного нашли в нем комитетчики из кино. И эта невинная реплика вызвала бурю эмоций режиссера:
— Как же вы не понимаете?..
Оказалось, что признание крамольности фильма было для его автора высшей оценкой, дороже всех профессиональных похвал.
Искусствовед Соломон Волков в беседе с Иосифом Бродским упомянул о стихотворении «На смерть Жукова», которое, на его взгляд, в творчестве поэта «стоит особняком». Это, что называется, «государственное» стихотворение. Или, если угодно, «имперское».
И. Б.: Между прочим, в данном случае определение «государственное» мне даже нравится. Вообще-то я считаю, что это стихотворение в свое время должны были напечатать в газете «Правда». Я в связи с ним, кстати, много дерьма съел… Для давешних эмигрантов, для Ди-Пи Жуков ассоциируется с самыми неприятными вещами.
С. В.: Но ведь стихотворение ваше никаких особых симпатий к маршалу Жукову не выражает. В эмоциональном плане оно чрезвычайно сдержанное…
И. Б.: Это совершенно верно. Но ведь человек недостаточно интеллигентный или совсем уж неинтеллигентный — он такими вещами особенно не интересуется. Он реагирует на красную тряпку. Жуков — вот и все. Из России я тоже слышал всякое-разное. Вплоть до совершенно комичного: дескать, я этим стихотворением бухаюсь в ножки начальству.
А ведь многие из нас обязаны Жукову жизнью. Не мешало бы вспомнить и о том, что это Жуков, и никто другой, спас Хрущева от Берии. Это его Кантемировская танковая дивизия въехала в июле 1953 года в Москву и окружила Большой театр.
«И запретительство, оказывается, живо. — Это снова Новелла Матвеева. — И начальства стало больше, потому что оно в публику перешло… Оно запрещает верить не только каждому в свой идеал, но и в то, что идеалы прежде были! А ведь были! Раз доходило до гибели за них, значит, были… Заметим ли мы это сами или нового Гюго будем ждать? Можно, конечно, весь драматизм былого свести к пародии да потехе. Неужели лишь только тогда, когда “люди гибнут за металл”, они заслуживают сочувствия?»
Были бы живы Окуджава и Бродский, повторил бы им вслед за Новеллой Матвеевой:
Не обращайте вниманья, маэстро,
Не убирайте ладони со лба.
Впрочем, и среди живых есть немало людей, которых сейчас поддерживают эти строки.
Ну и коль скоро ввел Новеллу Матвееву в большой мир не кто иной, как Лен Карпинский, мысль тут же по ассоциации переключилась на него, тем более что и в Конторских тетрадях немало строк с ним связано.
Познакомились, когда Лен был большим начальником, секретарем ЦК ВЛКСМ по идеологии. Сейчас кому сказать, и не поверят. А он себя очень даже комфортно чувствовал в таком положении. И в этом его не упрекнешь даже с позиций сегодняшнего дня. Он обладал недюжинным искусством переводить казенные пропагандистские директивы, негнущиеся бюрократические формулы на язык повседневного общения, сдабривая свои указания, которыми не стремился злоупотреблять, шуткой, каким-нибудь изысканным мотто, ссылкой на Монтеня или Вольтера, а если уж на Маркса или Ленина, то на таких, которые не были в широком обиходе.
Правильно говорится, что не место красит человека, а человек место. Вот и Лен красил это весьма высокое, перспективное по тогдашним стандартам, но и одиозное место идеологического рупора комсомола. Красил он его и поведением, и внешним обликом.
В классической литературе XIX века популярно было слово «блестящий» — блестящий дипломат, блестящий офицер, кавалергард, камергер и так далее.
Определение это словно бы специально было создано для Лена. Только вот существительное для этого прилагательного трудно было подобрать. Не скажешь же «блестящий аппаратчик» или что-то в этом роде. Тем более что им-то он если и был, то только по должности. Высокий, с чуть женственно гибкой фигурой. Продолговатое, смуглое, почти как у мулата лицо, черные маслины зрачков, плавающие в оливковой желтизне белков. Что-то мулатское, как у Пастернака. И всегда — эта беглая, возникающая словно бы без ведома ее обладателя улыбка, без слов намекающая на его истинное отношение к тому, чем приходится заниматься и о чем говорить.
С той же загадочной улыбкой, с какой передал стихи Новеллы, мог посоветовать редактору «Комсомолки» обратить внимание на весьма забавный, по его выражению, спектакль ходившего уже в «почти диссидентах» Владимира Максимова в театре на Малой Бронной, куда только-только пришел, формально на вторые роли, Эфрос; или на «исторические хроники» мало еще кому известного Миши Шатрова в «Современнике». И мы, в «Комсомолке», рады стараться, публиковали восторженные рецензии на премьеры, о которых «взрослая» пресса в лучшем случае благоразумно помалкивала.
…Но с той же, только еще более отстраненной улыбкой Лен мог приехать на улицу Правды, Шестой этаж, чтобы на заседании созванной по его обращению редколлегии упрекнуть газету в том, что она «мало уделяет внимания глубоко партийной прозе Кочетова, Маркова и Сартакова».
Много позднее, в годы перестройки, став «знаковым» демократическим деятелем, он улыбался той же неотразимой своей улыбкой, когда кто-нибудь напоминал ему об этих его рейдах. И он, и те, кто его подначивал, будь то единомышленники или супротивники, знали про себя, что это была просто отработка обязательной программы, от чего человеку на такой должности, будь он хоть трижды либерал, не открутиться. Разве что подать в отставку, с чем он не торопился.
Но, видно, что-то за ним все же примечало еще более высокое начальство. Может, даже Новеллу Матвееву поставили ему в строку, так же как спустя годы «прогрессисты» Булату — «Комиссаров»? Крайности сходятся.
Так или иначе, но после одного из всесоюзных комсомольских съездов, в ходе которого Лен, как и другие члены молодежного политбюро, включая и меня, торжественно заседал в президиуме главного кремлевского зала, рядом с «руководителями партии и правительства», оказалось, что секретарем ЦК комсомола он уже не избран, а назначен членом редколлегии, редактором отдела пропаганды «Правды».
На мой взгляд, должности эти в действовавшей тогда шкале иерархических ценностей были почти равнозначными даже с точки зрения пресловутых благ — ЦКБ, поликлиника на Сивцевом Вражке, талоны на питание, автомобиль, правда теперь не персональный, с водителем, а по вызову… Так что непонятно было, то ли выражать Лену сочувствие, то ли поздравлять. Решил сдипломатничать и поздравить… с приобщением к славному корпусу журналистов. Мол, кабинет комсомольского секретаря — убежище бюрократа, а газета, да еще такая, как «Правда», — это реальное дело, и здесь даже больше будет возможностей поддерживать все «разумное, доброе, вечное».
Что бы там про себя Лен ни думал, в ответ он только хмыкнул с хорошо знакомой собеседнику улыбкой.
И стало доходить из разных источников, что именно в этом духе и стиле он повел себя в «Правде».
Говорили, что статьи для публикации он по своему отделу предлагал такие, что не только до мозга костей партийный Зимянин, тогдашний Главный, но и его предшественник Румянцев, снятый за либерализм, задумался бы, прежде чем напечатать. Зимянин же либо отвергал их, либо беспощадно и собственноручно правил.
Коса окончательно нашла на камень, когда Лен вместе с политобозревателем газеты — тоже весьма высокая номенклатурная должность — Федором Бурлацким написал статью о провол?чках с разрешением к постановке спектакля «Смерть Ивана Грозного» в Театре Советской армии. Речь шла о неоправданном, по утверждению рецензентов, вмешательстве чиновников от культуры и идеологии в чисто творческие вопросы.
Экспансивный Зимянин только руками замахал, когда два его «высокопоставленных» сотрудника положили ему на стол эту «ересь».
И тогда они совершили то, что по всем писаным и неписаным правилам иначе как святотатством назвать было нельзя: статью, отвергнутую главным редактором центрального органа партии, без пяти минут секретарем ЦК КПСС, они предложили другим газетам.
Сначала «Литературке», где хитроумный, всезнающий Чаковский, сам претендующий на ореол «строптивца», ее отклонил со ссылкой как раз на то, что она уже побывала в «Правде». Вот, мол, если бы сразу пришли ко мне…
Потом — «Комсомолке», где «Панкину она понравилась, и он ее напечатал», как лаконично формулировал много лет спустя Лен в одном из радиоинтервью.
К этому можно только добавить, что несколько членов редколлегии у нас были против публикации.
Отголоски этой истории обнаружил совсем недавно. Ветераны-твардовцы попросили помочь отредактировать и найти издательство, которое взялось бы опубликовать полный текст дневников 1967—1970 годов заместителя Твардовского Алексея Кондратовича, рассказывающих о последних годах «Нового мира» под редакцией А. Т., как они его по-прежнему между собой называют.
«Я рассказал А. Т. о снятии Карпинского и Бурлацкого. Говорят, что сняли их так. Зимянин созвал редколлегию и сказал, что они не могут работать в “Правде”. Тут же их и осудили…
Слухи утверждали, что снят и завотделом литературы “Комсомолки” Щербаков (кстати, сын того самого А. С. Щербакова, который когда-то был комиссаром при Горьком и Союзе писателей, а потом круто пошел в гору, стал секретарем ЦК партии, во время войны — начальником Главпура, внезапно умер и в “деле врачейотравителей” фигурировал как жертва злодеев в белых халатах), полетел и главный редактор Панкин.
А. Т. спросил, о чем у них была статья. Потом:
— Как у нас хотят, чтобы люди не думали. Не думали! Как будто это возможно».
С позиции многострадального, знакового, как теперь бы сказали, журнала статья двух наших авторов представляется автору дневников в основном невинной… В ней история с «Теркиным на том свете» даже не упоминается… Никакого якобинства в ней не было: авторы статьи, кстати, достаточно умеренные люди. А эпизод был такой, о котором говорили все лето 67-го года. «Почему? — спрашивает Кондратович и сам же отвечает: — Невинная статья, раздутая до размеров крупной идейной ошибки, сделала эпизод в известной мере вехой».
И тут же упоминание о звонке ему из «Комсомолки» от Лиды Графовой, которая «сказала с радостью и гордостью»:
— Работать стало труднее. Теперь мы сравнялись с вами в ошибках.
— Положим, не сравнялись. До нас далеко.
Два серьезных человека, правда в разных возрастных категориях, ведут серьезный разговор, и вдруг вот прорываются такие ребяческие детские интонации — самое трогательное в этих нескольких страничках текста. Матерому Кондратовичу как будто бы и завидно, и неловко, что вот «Комсомолку» за такую сравнительно «невинную статью, никакого якобинства» так расчихвостили, а им, новомировцам, ставящим в каждый номер кое-что покруче, куда покруче, пока еще только грозят; начинающей же протестантке Лиде Графовой импонирует, что ее газета стала как бы в ряд с «самим» «Новым миром».
Не знал об этом ее звонке, но ясно представляю себе ее юную, обрамленную волнами непослушных волос физиономию, дышащую гордостью за свою газету.
Такими были настроения, господствовавшие среди тех в журналистике, кто служил ей не за страх, а за совесть.
…Когда буря, разразившаяся вслед за появлением статьи, схлынула, Лен оказался спецкором «Известий», а Бурлацкий — сотрудником все того же румянцевского Института социальных исследований, где не один уже сотрясатель основ нашел себе пристанище. Оба они схлопотали по партийному выговору. «Комсомолку» по указке партии наказали по комсомольской линии.
Лен не угомонился и написал письмо в ЦК КПСС. Но не по своему поводу. И не жалобу, а, можно сказать, обвинение или по меньшей мере укор руководству партии, которое, по его убеждению, по многим пунктам свернуло с правильного, Лениным указанного и XX съездом партии подтвержденного пути. Призывал очистить от начетнической накипи творческое наследие Владимира Ильича.
У меня сохранилась машинописная копия текста. Наивнее и чище этого документа, да и поступка, глядя сегодняшними глазами, трудно себе что-либо вообразить. В наши циничные времена вообще немыслимо себе представить, чтобы взрослый, умный человек, тертый калач мог такое отправить в «верха». Еще один комиссар в пыльном шлеме…
Из ЦК КПСС, как и можно было ожидать, письмо было переправлено в партийную инквизицию, в хорошо знакомый КПК, где противоборство стоящего на кристально чистых, партийных в лучшем смысле этого слова позициях Лена с инспектором КПК Надеждой Михайловной Петровой закончились исключением первого из партии и расставанием с «Известиями».
По сути-то дела, Лена наказали за приверженность вождю революции.
Вспомнился в этой связи один из череды вызовов в отдел пропаганды, в тот раз по поводу передовой статьи.
— Вы понимаете, что вы печатаете? — спросили, показав вырезанную из номера передовицу, где вся середина текста была подчеркнута красным карандашом.
— Дак это ж Ленин, — изумился я.
— Ленин, — нахмурился хозяин кабинета. — Но ведь и Ленина с умом надо цитировать. У него, знаешь, все, что угодно, можно найти.
Я слушал, и уже мысленно видел себя вписывающим эти слова в свои Тетради.
Узница сталинского ГУЛАГа, Надежа Михайловна ненавидела Хрущева, который ее освободил, и обожала Сталина, который ее засадил. Она до последнего считала, что попала в места не столь отдаленные по ошибке. И в определенном смысле была права. Такой человек Иосифу Виссарионовичу пригодился бы, как мало кто другой.
Быть может, именно в тот момент Лен обнаружил, что дело не только и не столько в лицах, сколько в чем-то другом. Но в чем? В принципах и идеях? В концепциях?
Из «Известий» стезя начинающего диссидента привела его, вначале на правах вольноопределяющегося, к тому же Румянцеву, куда прямо из «Правды» был отправлен его соавтор, успевший там основательно окопаться.
Матвеич, как звали за глаза шефа его сподвижники, тоже был, подобно заведовавшему агитпропом ЦК Яковлеву, одним из выдвиженцев своеобразной оттепели, которая, как ни странно это звучит, возникла на короткий период не только при Хрущеве, но и в медовый месяц правления Брежнева, ратовавшего поначалу за научно обоснованный подход к управлению обществом.
Назначенный Хрущевым главным редактором международного коммунистического журнала «Проблемы мира и социализма», издававшегося в Праге, Румянцев умудрился превратить его, согласно злым языкам, — а, с другой стороны, может, и добрым, — в «рассадник ревизионизма» и висел при Никите на волоске. И возможно, именно поэтому сразу после его падения был назначен, к неудовольствию тех же злых языков, главным редактором «Правды». Но и там тоже начал «хулиганить», в результате чего продержался на новом посту лишь восемь месяцев, уступив этот пост Зимянину.
На счастье, взвешенно еретический взгляд на происходящее в стране сочетался у Румянцева с мощной аппаратной хваткой. Уволенный за свой признанный ошибочным двухподвальник о литературе в социалистическом обществе, он все-таки пробился на прием к симпатизировавшему ему Брежневу и получил добро на создание первого в стране Института социологических исследований, куда к нему потянулись «штрафники» из его «Проблем», из различных редакций и гуманитарных институтов и даже отделов ЦК КПСС.
Кто-то сочинил о них стишок:
А там все мальчики кудрявые да левые,
Все Арнольдики, Додики да Жоры.
И в глазах у них Тольятти да Торез
И здоровый сексуальный интерес.
Нельзя исключить, что кто-то из них же это и произвел на свет. Самоирония была в моде. Так же как и амбициозность.
И повесят их портреты на стене
С Тимофеевым Тимуром во главе.
Тимур Тимофеев был сыном лидера компартии США и руководил еще одним НИИ с репутацией либерального учреждения — Институтом международного рабочего движения.
Попадая в эту среду, изгнанники даже общий облик свой, чинно-бюрократический на прошлых работах и службах, меняли.
Натягивали потрепанные джинсы, бутсообразные ботинки, толстые свитера и водолазки. Рубахи-ковбойки носили расстегнутыми чуть ли не до пупа.
За одним из знакомых записывал:
«Бороду начал выращивать. Не знал, как на это посмотрит шеф. Первое время старался не показываться ему на глаза. А он все вызывает и вызывает. Как назло. Вначале, наверное, думал, просто небритый, неряшливый.
Потом шеф уехал в Барвиху. За это время выросла чудесная шелковистая борода. Шеф входит в столовую. Мы сидим.
— Ба-а, народник!»
Лен начал внешне меняться уже после перехода в «Правду». Дальше больше. Из блестящего — вот теперь нужное слово, кажется, подвернулось — денди: всегда в костюме с иголочки, всегда шикарный галстук, ослепительно-белая, быть может, даже подкрахмаленная рубашка и сияющие чернотой носки модных ботинок — он превратился чуть ли не в хиппи: мятые брюки, а позднее и штопаные джинсы, какие-то немыслимые, размером больше чем нужно свитера, расстегнутый ворот блеклой рубахи, толстокожие, со смятыми задниками башмаки…
Все изменилось. На смену гибкой стати пришла сутулость, которая в людях высокого роста особенно бросается в глаза, овал лица стал как будто меньше, нос и подбородок заострились, щеки втянулись, в глазах потух свет… И мягкая ироническая улыбка на его устах все чаще оборачивалась саркастической усмешкой.
Лен, пришел я к выводу, был человеком принципиальным и духовно несгибаемым и, может, потому так и изменился внешне, что вера его в прежние идеи была искренной, и эффект разочарования повлиял на него сильнее, чем радость от обретения новых верований и убеждений.
Приходили в голову и другие, чисто обывательские, что ли, объяснения изменений во внешнем, да и внутреннем, облике Лена. Какой бы ни была трансформация его мировоззрения, наступившие в его жизни перемены были не по нему, не по его натуре. Как ни странно, по нему был тот образ жизни, который он вел до своего «грехопадения». Ему нравилось эпатировать. С одной стороны — казенную публику, которую его ироническоеретические эскапады тем сильнее ударяли по мозгам, чем выше было его официальное положение. С другой стороны и на другой манер — всю эту богемную артистическую и литературную публику, которая без ума была от его интеллектуальной безоглядности, казалось бы совершенно несовместимой с его должностью.
Умом, сознанием он был несгибаем, а вот телом, плотью поник, выпав из своей стихии. И воскрес, но не надолго с наступлением перестройки и гласности, которая продвинула его в главные редакторы егоро-яковлевского разлива «Московских новостей», ставших рупором перестройки.
Перечитал эти строки и вспомнил Пушкина, не дословно: автора надо судить по правилам и законам, которые он сам над собой признает. Кажется, здесь, и не первый раз, я эти правила сам и нарушил. Разразился комментариями. А может, это тоже правило — нарушать? Вседозволенность постмодерна?
В общем, наверное, придется нарушать и дальше. А если нет, то как в анекдоте: не потому, что осознал, а потому, что иссяк.
В отличие от Лена, который, кажется, ощущал себя белой вороной как во властных слоях, так и в кругу фрондирующей интеллигенции, Олег Табаков, тоже противостоявший партийной твердолобости, в любой обстановке чувствует себя как дома. Так было и в тот вечер, на приеме во французском посольстве.
«Наткнулся сейчас на Васю:
— Вася, гад, что же ты в подвал-то ко мне, когда?
— Нет, Олежка, — сказал Вася голосом, который сразу проложил между нами миллионы километров, — в подвал я к тебе уже не успею. Когда-нибудь позже. Лет эдак через двадцать — двадцать пять.
— Ну тогда давай попрощаемся, поцелуемся.
У него слезы из глаз брызнули.
— И тут, — продолжал Олег , — мы с ним выпили за его отъезд. Пусть кто хочет смотрит и слушает. — Тут еще рядом каменный Нагибин стоял. Когда он помоложе был, его фигура, красота профиля еще как-то скрадывали… А сейчас — тумба тумбой. Да, ребята, с отъездом одного известного писателя за бугор и переходом его в Штатах на педагогическую работу с лязгом и гулом захлопнется дверь в наши шестидесятые», — заключил Олег и мы не сговариваясь посмотрели вслед уходившему с приема Васе, за которым и вправду захлопнулась дверь, но пока лишь посольства.
Моя следующая встреча с Аксеновым как раз и произошла через предсказанные им четверть века… на острове Родос. Встретились как участники организованного одной из международных писательских организаций симпозиума.
Прозаик и литературный критик.
Сейчас как двину чем-нибудь железным,
Так совмещу приятное с полезным,
любил приветствовать критиков поэт православного, или, как раньше говорили, антиновомировского, в смысле антитвардовского, направления Владимир Туркин.
…Поселили нас в интернациональном писательском доме, сравнительно недавно открытом, в двух отдельных кельях через стену. Дом находился на окраине островной столицы, на каменистом холме, под которым расстилалась сверкающая, как серебристая рыбная чешуя, гладь Адриатики и видны были развалины Родосского Колосса.
Крутой спуск вел в бело-кремовый центр города, где в здании местной библиотеки проходили заседания семинара. По этому спуску, пока я еще брился, Вася, натянув майку и джинсовые шорты, отправлялся бегать рысцой вдоль морского берега. Вернувшись, успевал еще до завтрака постучать на машинке — как выяснилось, дописывал рассказ из американской жизни «Бэби — Кассандра», чтобы успеть прочитать его (с триумфом) на симпозиуме.
Так что, хоть и жили по соседству, виделись в основном на заседаниях, а беседовали в перерывах да во время обедов и ужинов, где душистые греческие блюда заливали известным еще со времен Античности слабоградусным вином янтарного цвета, наливаемым в горящие солнцем медные кружки. Покидая остров, приобрел одну такую кружечку на память.
Симпозиум назывался «Пишущие в изгнании», что для Аксенова было уже в прошлом. А я к этой категории и вообще никогда не принадлежал, хотя и прилетел на Родос из Стокгольма, где пребывал, распростившись с обязанностями посла России в Великобритании.
Изгнанницей чувствовала себя одна шведская писательница, которая эмигрировала в Штаты, потому что дома, в родном королевстве, ей не давали читать стихи на читательских конференциях обнаженной, стоя при этом на голове.
Аксенов выступил на Родосе с позиций чистого искусства, в качестве его певца, далекого от шума и гула мирского. Словно бы израсходовав на большевиков весь бунтарский заряд, он в своих спичах оставил в покое Россию и предпочел говорить об «академической и литературной жизни русских в Соединенных Штатах».
Я же не преодолел соблазна сказать, что думаю о демократическом на вид режиме Бориса Ельцина, который только что выдвинул в премьеры Путина.
Вася в публичную полемику не вступал, но в кулуарах с улыбкой охлаждал страсти.
Разговоры о социальной катастрофе, обнищании половины населения, о растущей не по дням, а по часам пропасти между богатством и бедностью в России, о миллионах, оказавшихся без гражданства в собственной стране.
— А что ж ты хотел? Так, налегке выбраться из той жопы, куда загнала нас советская власть?!
Казалось, что ветерану-еретику, покинувшему страну при советском строе, все в новой России нравится. Главное — полная свобода. Можно писать и говорить все, что хочешь.
И надо признать, что на том международном писательском симпозиуме, под жарким островным солнцем, с медными кружками, у руках у Аксенова было больше сторонников, чем у меня, и не все можно было отнести на счет его личной популярности. Популярен еще был и Ельцин.
— Всем все было понятно на Западе, — не сдавался я, — когда человек, как тот же Василий Аксенов, например, порывал с тоталитарным режимом, каковым по общедемократическому признанию считался и был Советский Союз. Но если сегодня ты, мнивший себя легальным диссидентом в советские годы, активный участник радикальных демократических реформ в пору перестройки, оказываешься в конфликте с либеральным проельцинским лагерем, на тебя начинают смотреть с сомнением. Уж не болен ли ты ностальгией по проклятому прошлому?
— Парадоксально, но факт, — развивал я ту же мысль на другом рауте, — политическая необходимость жестко противостоять пережиткам коммунизма показала, как глубоко еще сидят авторитарные тенденции в сознании лидеров демократического лагеря.
С этим Аксенов не мог не согласиться, на чем мы и сошлись, и наше прощание — Вася улетал в Штаты, откуда скоро перебрался на юг Франции, я возвратился в Стокгольм — получилось на удивление сердечным, не сказать, лирическим. Я, правда, упомянул, о чем тут же и пожалел, прочитанную недавно книжку еще одного эмигранта «четвертой волны». Автор причислял себя к закадычным друзьям Аксенова, но квалифицировал его давнее расставание с родиной прозаичней, чем Табаков, — как выезд с женой «по израильской визе».
— Законченный мудак, — отрецензировал Вася на языке своих героев.
В 2007 году, живя, как говорится, на два дома, в Москве и на юге Франции, он подтвердит свою данную на Родосе оценку ситуации в России. На вопрос журналиста: «Вы считаете, сейчас у нас либерализация?» — ответит: «Да, конечно, а что же, колоссальная либерализация! Мы можем негодовать по поводу различных мерзких поступков представителей власти, скажем, сетовать на совершенно незаконное заключение Ходорковского, разгон ЮКОСа, все эти дела с убийствами. Есть ощущение существования людей, которые жаждут нас снова загнать под ярмо, но на самом деле мы живем в обстановке — пока, на данный момент — колоссальной либерализации, мы можем печатать абсолютно все, что хотим, нам никто никаких препон не создает…»
Конторские тетради и эта вложенная в них аппетитно изданная голубая брошюрка на английском со стенограммой родосской встречи подхлестнули напоминавшие головоломку размышления над феноменом «четвертого поколения». Так в свое время обозначил неформальную группу, известную именами Аксенова, Гладилина, Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной, Вознесенского, мой однокашник по факультету журналистики Феликс Кузнецов, потом отступившийся от них. За что Аксенов в своем последнем, изданном посмертно романе назвал его Кузьмецом.
В Тетрадях запись: «Вечер в Доме литераторов — Белла Ахмадулина. Волна золотистых с медным отливом волос и медовый пульсирующий голос: “Мы с Андрюю-ший кылда-а-ва-а-ли над бездной…”».
Теперь вспомнилось другое ее, тоже запечатленное в Тетрадях явление много лет спустя на четвертьвековом юбилее «Современника»: «Черные кожаные штаны в обтяжку, кожаная куртка и утратившие былую рыжину волосы. Читала со знакомым, “знаковым” придыханием два стихотворения с одним названием — “Взойти на сцену”».
Колдовавший вместе с Беллой над бездной Андрюша десятилетия спустя сформулирует кредо течения, ставшего предметом зависти и подражания «четвертого поколения»:
«…Ален Гинсберг , лохматый, как шмель, идол массмедиа, гуру, теперь уже классик, Уолт Уитмен нашей эпохи, родоначальник и вождь битничества — явления, без которого невозможно познать духовную жизнь и культуру Америки последнего полувека».
И словно бы еще один отголосок тогдашних дискуссий — вклеенная в очередную Тетрадь страничка, вырванная из «радиоперехвата», еще одно, кстати, забытое словечко, с записью передачи «Голоса Америки» о первом в СССР концерте английского исполнителя попмузыки Элтона Джона:
«Публика, наполовину состоявшая из длинноволосых, одетых в джинсы молодых поклонников поп-музыки и наполовину из коротко подстриженных, солидно одетых комсомольских деятелей, кричала, свистела и неистово хлопала в такт знакомым песням… Потом исступленные поклонники прорвались сквозь ряды милиционеров и стали исступленно танцевать прямо перед сценой. Английский певец не ожидал такой реакции: “Я думаю, что наступает общее смягчение идей”».
Когда Джо Дассен обратился за советом к будущему своему наставнику Жаку Пле, с чего начать, тот сказал: «Отрасти волосы».
В одном иностранном журнале той же поры карикатура на тему повального увлечения нудизмом. В раздевалке, перед входом в клуб посвященных швейцар останавливает фотокорреспондента, который, как и все остальные, в чем мать родила. Оказывается, посетитель не снял футляр со своего фотоаппарата.
И совсем уже в нынешние времена кто-то из пожилых неолибералов, сродни родителям из «Взрослой дочери молодого человека» Славкина, посетовал: «Если бы мы в молодости имели возможность развиваться в атмосфере рок-н-ролла, приобщиться к свингу, Элтону Джону и “Роллинг стоунз”, мы были бы другими людьми и страна была бы другой».
Но, как говорится, был еще не вечер. Когда настало время, «рок-н-ролл больше сделал для уничтожения СССР, чем ЦРУ», по категорическому заявлению Андрея Бурлаки.
Эти страсти, однако, поумерил Аксенов, обратившись к другому знаковому аксессуару советских молодых и сердитых людей — к джинсам:
— Что же касается пресловутых джинсов, то они (на Западе) стали носить их в знак отвержения западного общества, а мы-то как раз наоборот — для демонстрации близости к западному обществу.
Один из персонажей Славкина, написавшего поставленную в «глухую застойную пору» пьесу «Взрослая дочь молодого человека», еще в советские годы разочаровался в своих рок-панковских идеалах, образно обозначив это репликой «Чаттануга Чу Чу», была такая знаковая рок-мелодия, а оказалось, что это всего-навсего захолустный железнодорожный полустанок».
Литературный изыск обернулся через десяток лет явью. На экране телевизора то, что теперь называют reality show: рассказ об одной американской семье, путешествующей по стране. И вдруг одна женщина выглядывает в окошко и буквально отшатывается: «Чаттануга в Теннесси? Не хочу…» Так или иначе, оно настало и в России — долгожданное время полной доступности рока и джинсов. Пришло вместе с олигархами, приватизацией, сексуальной революцией. И в сущности, те, кто обмирал по року, и стали новой элитой страны. Притом что термин «элита» приобрел далекое от его исходного смысла значение.
Дмитрий Медведев — тоже из поколения «взрослой дочери молодого человека». И судя по тому, как он выразил симпатии своим кумирам, в юношеских пристрастиях не разочаровался и в зрелые годы.
Не у всех, правда, была возможность так выразить свои симпатии, как у президента, — пригласить, хорошо заплатив, (за чей счет?) любимую с подростковых лет зарубежную группу на концерт в Кремль, чтобы в ностальгическом порыве отметить под саксофон и ударник сразу два события: прощание с постом председателя Газпрома и избрание президентом России.
Дмитрий Губин (из «Огонька») — Шендеровичу:
— Знаете, Виктор, что бы ни говорили про Медведева, но своей любовью к «Роллинг стоунз», он вообще какой-то Сократ на фоне людей, которые массово слушают шансон и «Русское радио».
Чтобы оценить всю ценность комплимента, надо было услышать, что в том же эфире Губин говорил о Блоке:
— Отчасти Блок, как известно, был сволочь в бытовой жизни жутчайшая. Только что Коля Сванидзе показывал очередной сериал про Блока. Я сам думал: «Господи, какая сволочь, какая падла был Александр Блок, но гений и интеллигент, несмотря на то, что в быту был падла». А интеллигентом он был потому, что он каялся в том, что он был падлой по отношению к окружающим людям, которых, нужно признаться честно и откровенно, мучил.
— На наших глазах рок произвел электрогитаризацию всей страны, — явно апеллируя к ленинской электрификации, только без советской власти, продолжает Андрей Вознесенский. — В этом есть плюс. Процессы подключились к мировому энергетическому полю. Родилась субкультура… Книги Керуака, Берроуза, да и самого Гинсберга… начали издавать у нас. А без них, повторяю, мы будем слепы в вопросах мировой культуры, которую стремимся понять.
Словно бы вторя предложенной поэтом схеме влияния, литературный критик того же направления Наталья Иванова называет «Звездный билет» Василия Аксенова произведением, на котором возрастало поколение.
А сам автор в день своего 75-летия отмахнулся и от «Билета», и тем более от «Коллег» и заявил, что вообще ведет свою творческую родословную от «Затоваренной бочкотары». Даже «Апельсины из Марокко» не в счет.
Пастернак шел от немыслимых усложнений к «неслыханной простоте». Аксенов, получается, наоборот?
Парадокс: в наши дни, когда «никому ничего за это не будет», вряд ли кто отважится оспорить достоинства этой вещи. Даже если ее не читал.
А заместитель Твардовского Алексей Кондратович в «Дневнике» за 1969 год рассказывает о своей беседе с инструктором ЦК КПСС, курировавшим «Новый мир» и в перестройку ставшим директором «Совписа»:
«Еременко сказал, что “Бочкотара” уже опубликована. Я заметил, что повесть была у нас, но из-за полной ее пустоты мы не взяли ее. “Но говорят, что это почти Булгаков”, — сказал Еременко. Вот уже как, хотя Аксенову до Булгакова скакать и скакать».
Эхом давних размышлений стали строки в книге мемуаров Михаила Козакова.
«“Девять дней одного года”, где Смоктуновский имел огромный, неправдободобный успех, сыграв физикатеоретика типа Ландау. Правда, мне в этом фильме с самого начала и всегда потом больше нравился Алексей Баталов в роли Гусева. Чему очень удивился Ромм:
— Смоктуновский гениален, а другие играют отлично.
Потом на премьере в старом Доме кино на Воровского после монолога о дураках Куликов-Смоктуновский сорвал бурные аплодисменты… Ромм торжествующе посмотрел на меня и добавил:
— Ах, как он играет!»
А дело было, сказал я себе, прочитав у Козакова эти строки, не в игре только. То есть не столько в игре, сколько в характере, созданном Смоктуновским, в котором отразились идеалы и предпочтения продвинутой, как теперь бы сказали, аудитории.
Им и аплодировали. В данном случае. Потому что Смоктуновскому-актеру и без того устраивали овации по любому поводу.
Илья Смоктуновского импонировал тем, что ядерный реактор называет кастрюлей, пожилого официанта в ресторане — австралопитеком, ничего внятного, по сути, не делает, а только летает без конца туда-сюда и подает, ко всеобщему восторгу, остроумные реплики.
Михаил же Ильич, наверное, радовался, что ему, как Тургеневу с его Базаровым, удалось создать не просто характер, а тип.
Пусть так. Но мои симпатии вместе с Козаковым были на стороне Мити, баталовского героя. Сдержанный, собранный, цельный… Словом, слегка старомодный. И не то чтобы с осуждением, но со снисходительной усмешкой относящийся к трепу, теперь бы сказали «стебу», Ильи.
В финале фильма, правда, универсально иронический, ни к чему вроде бы серьезно не относящийся Илья оборачивается настоящим человеком и другом. Как у Евтушенко:
Товарища спасая,
Нигилист погиб.
Прямолинейней этих строк вряд ли что найдешь в поэзии.
Разве только в прозе. «Остров Крым», например, где этот тезис развит главным и положительным героем романа, который сравнивает две популяции молодежи этого независимого от «великого Советского Союза» утопического демократического мини-государства. Одна — это «Молодая волчья сотня», которая не перестает декларировать, что «в послесталинское время, в хрущевской неразберихе, пора высаживаться на континент, пора стальным клинком разрезать вонючий маргарин Совдепии, в неделю дойти до Москвы и восстановить монархию».
В ожидании этого заветного мига члены экстремистской организации нападают на инакомыслящих, насилуют красивых девушек, грабят зазевавшихся туристов…
Когда же «началась венгерская революция 1956 года, “Молодая волчья сотня” осталась ораторствовать в уютных бараках Крыма, в то время как юноши из либеральных семей, все это барахло, никчемные поэтишки и джазмены, как раз и организовали баррикадный отряд, вылетели в Вену и пробрались в Будапешт прямо под гусеницы карательных танков».
В те же свои юбилейные дни Аксенов признавался: «Начав в конце прошлого десятилетия возвращаться на родину, я оказался в странных отношениях с возникшим без меня жаргоном. Когда-то я ведь и сам считался жаргонным засорителем ВМПС, а вот сейчас, когда новые выражения и словечки вошли в обиход, все время ловлю себя на неловкости, даже брезгливости и несколько содрогаюсь, когда приходится употреблять, когда без этого не обойтись».
Вздох самоотречения, когда стало совсем уж невмоготу, вырвался из груди другого творца российского роксленга Андрея Вознесенского:
— Так происходило раскрепощение языка. Мы неловко боролись против стереотипов. Ныне мат заполонил издания, стал официальной феней депутатского корпуса… Впрочем, мне кажется, раскрепощение языка сегодня достигло предела. Дальше демократизировать некуда. Произойдет взрыв языка.
Взяв по этому случаю в руки — впервые за столько лет — подзабытую уже книжечку повестей и рассказов Аксенова (1963 год), включающую и «Апельсины из Марокко», я обнаружил, что эту опасность неоспоримый мастер «джинсовой прозы» почуял уже тогда. В предисловии к первому книжному изданию нашумевшей повести, откликаясь на возникшую вокруг версии «Юности» метель читательских откликов («Незримая полемика проходила и на страницах читательских писем, которых было очень много. Были письма резко критические, были и положительно оценивающие повесть… Поистине наш читатель — лучший в мире читатель…») он сообщает: «В этом варианте я попытался резче индивидуализировать портреты героев за счет прочистки жаргона…»
Да и в тексте повести один из героев, Николай Калчанов, теперь признавал, что «все это» стало ему напоминать «какую-то обязательную гимнастику для укрепления языка. И в этой чудовищной болтовне появилась какая-то фальшь».
Можно, конечно, представить себе, что редактуру «Апельсинов из Марокко» их создатель произвел не из уважения к мнению рядовых читателей, своих корреспондентов, а под нажимом какого-нибудь партийного начальства. Но в ту пору, когда он вернулся на родину, давить на него охотников не было, как не было и самого партийного начальства. И его протест против уродования языка вырвался как крик души.
У меня с апельсинами связаны свои воспоминания. Ночь с 31 декабря 1953 года на 1 января 1954-го. Новогодний молодежный бал в Кремле, первый в его советской истории, о котором мне, к вящему моему удовольствию, поручено написать репортаж. За его загадочными стенами сверкающие золотом залы Большого Кремлевского дворца, где на расставленных по этому случаю столах — груды ярко-оранжевых апельсинов и их всепроникающий запах, который, кажется, не только обоняешь, но и осязаешь, — его тепло и шелковистость, которые делаются еще ощутимее, когда берешь этот плод в руки и пытаешься его чистить.
Апельсин — это предмет роскоши, что-то совершенно недосягаемое. И вдруг вот они — золотые ароматные груды… И все — в твоем распоряжении.
Но больше двух апельсинов я в ту ночь, как ни старался, не осилил. Повторилась история десятилетней давности — 1944 год. Поход на Останкинский хлебозавод, где мать работала возчицей хлеба, развозила в паре с другой женщиной хлеб в тележках по близлежащим магазинам. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».
Нередко доводилось помогать ей. И всегда при расставании она умудрялась сунуть в карман или за пазуху помятую и еще горячую краюху «чернушки» или «беленького».
Как-то маме выдали ордер на пошив подросткового пальто. Мастерская находилась в стенах завода, и на меня по этому случаю был выписан пропуск. Подруги матери сразу же потащили в цех. Голодная весна 1944-го. А тут движущиеся по гигантскому кругу буханки горячего благоухающего хлеба — белого и черного… Глазам своим не верил. Машинально откусил от протянутой сердобольной рукой буханки, а проглотить не мог . Спазм в горле. А шел — мечтал: «Обязательно целую ковригу съем…»
Свой отпечаток аромат апельсинов оставил и в творчестве Андрея Вознесенского.
Со свойственным ему обыкновением не уточнять даты, то есть не только дни, но и месяцы и годы («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), он рассказывает, как в нью-йоркский отель «Челси» — «антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире… именно за это здесь платят деньги» — ему позвонила «звезда андеграунда» Ширли Кларк, подпольная кличка Апельсин, «затеявшая документальный фильм о моей жизни», и что из этого вышло.
Получив телеграмму «Прилетаю ночью тчк апельсин», притесняемый на родине поэт «с бешено заколотившимся сердцем» вошел в соседнюю с отелем фруктовую лавку и заказал «буйвологлазому бармену», прессовавшему апельсины для коктейлей, 4 тысячи (тысячи!) этих оранжевых плодов, каковые «буйвологлазый» ничтоже сумняшеся доставил в его номер на десятом этаже.
Когда «она с размаху отворила дверь в комнату… она споткнулась. Она остолбенела. Пол пылал… Пол горел у нее под ногами… Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая».
К тому же еще через каждые двадцать штук была вставлена горящая «шаровая свечка оранжевого цвета».
«Это отмщение ограбленного эвакуационного детства! — восклицает поэт. — Пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и Парижами, наш пламенный плот. Сейчас будут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве… Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта».
Да, наверное, запах давленых апельсинов в этом случае был посильнее, чем тогда в Кремле, подумал я, пробегая эти строки. Но на месте Андрея вспомнил бы не Нерона и не гусар а-ля Долохов Льва Толстого, а современных нам с Андреем олигархов, по сути дела детей, взрослых дочерей и сыновей того самого молодого человека, который в пьесе Славкина того же примерно названия грезил о свободе и демократии в образе Чаттануги, жевательной резинки, железного рока, джинсов и башмаков на толстой каучуковой подошве.
…Стройные ряды волонтеров «четвертого поколения» дрогнули, а там и рассыпались задолго до перестройки.
В 90-х и на сломе столетий бунтари 60-х уподобились воздушным шарикам, воспетым Окуджавой, из которых выпустили воздух.
Бродский, когда его спросили о Евтушенко, произнес сакраментальное:
— Если мне скажут, что Женя против колхозов, я скажу, что я за колхозы.
Михаил Козаков, говоря о Константина Симонове:
— Вот уж кто действительно «разный», но не по- хлестаковски, как Евтушенко, а искусно, изщренно, умно.
Статью обосновавшегося во Франции предтечи «исповедальной прозы» Анатолия Гладилина в «Новом русском слове» читали по «Голосу Америки»:
«Евтушенко его ранней поры всегда была свойственна искренность. Страна любила его за эту искренность и отвечала ему всенародным признанием. Но потом… времена круто изменились, а он думал, что еще может удержаться на поверхности, показывая фигу в кармане… Надо было выбирать между стоическим и горьким служением народу и музе и положением полупридворного поэта. Евтушенко выбрал второе… Его бывшие товарищи уходили из Союза писателей, уезжали в эмиграцию, а у него выходили тома скороспелых стихов. Он приобрел дачу, квартиру в высотном доме и — предел мечтаний — черную “волгу” с телефоном…»
Я бы, может, и не стал воспроизводить лишний раз эти достаточно известные и на удивление прямолинейные суждения, если бы не было под рукой, то есть на страницах Тетрадей, звучащей отнюдь не в унисон реплики Михаила Васильевича Зимянина, секретаря ЦК по идеологии.
— Блажит? — спросил он при мне о Жене кого-то из руководящих деятелей Союза советских писателей.
— Есть немного.
— Анти нет?
— Нет.
— Так что мы, не в состоянии этого выдержать?
Вспомнилось, как Илья Глазунов, рассказывая тогдашнему вождю комсомола о планах восстановления Ростова Великого, восклицал время от времени:
— Сергей Павлович, дозвольте распоясаться!
Распоясался и еще задолго до перестройки. Ростовский кремль возродился, как птица феникс из пепла, став поначалу молодежным пансионатом.
Рука потянулась за отложенной книгой: Давид Самойлов. «Памятные записки». Дата публикации — год 1995-й. Издательство «Международные отношения».
Раскрыл и не первый уже раз подивился тому, что эта книга, никакого отношения к вопросам внешней политики и дипломатии не имеющая, была напечатана именно в «Международных отношениях». «Все смешалось…» Только особенностями того мутного, путаного времени это и можно объяснить. В данном случае они сработали на благо. Наткнулся я на эту книгу в русском разделе стокгольмской библиотеки для иностранцев десять лет спустя после ее выхода. Выписанные тогда же строки относились к ситуации конца 60-х годов. Тогда же и возникли. Вот и встретились сразу три эпохи.
Молодежь стала бороться за свой вкус.
Пусть поверхностное, пусть невежественное, но западничество проникает в огромные слои молодежи. Твист, шейк, узкие брюки, гитара, магнитофон — геральдические знаки этого движения.
Хрущевизм был политикой переходного периода. Евтушенковщина — его искусством.
Евтушенко — вождь краснокожих. Вознесенский — шаман. Весь этот экстаз прикрывает банальность мысли.
Перевернул еще несколько страниц.
«Чувство принадлежности системе всегда выручало Евтушенко…»
«Эпатирующая форма Вознесенского… будучи официально охаяна, тоже стала фактором борьбы за свободу вкусов…»
Пришлось признать очевидное: мэтр сумел увидеть и понять больше (и раньше!), чем я некогда понял, заглянуть глубже, выразить то, о чем я только догадывался. Быть может, тут имело значение, что я сам принадлежал к этому поколению, а у Самойлова была возможность взглянуть на него как бы со стороны, вернее, с высоты — лет и опыта.
«В популяризации Евтушенко немалую роль сыграла наша официальная печать… Она порой загоняла этого ортодоксального поэта в самиздат, придавая ему ореол пострадавшего от политических гонений… У читателя же сложился твердый рефлекс: принимать все, чего не принимает официальная критика».
Не без черного юмора подумал, что, опубликуй Самойлов эти свои заметки в ту пору, когда они были созданы, его, пожалуй, самого зачислили бы по тому же разряду казенных критиков.
Почему, кстати, он их не обнародовал? Может, как раз этого и опасался? Или это Главлит ему помешал? Тогда получается совсем смешно. Официальная цензура, встающая на защиту еретиков от их гуру.
Вопрос о том, о чем можно говорить во всеуслышание, а о чем нельзя, не так уж прост. И не в одной официальной цензуре тут дело.
Поработав мышкой — теперь она открывала дорогу и к текущей информации, и в архивы, — без труда нашел то, что по ассоциации вспомнилось при перечитывании Самойлова. Выборки из запомнившейся книги, попавшей в поле зрения сравнительно недавно.
Диссидентка 70-х Раиса Лерт. Сборник эссе и воспоминаний «На том стою». Статья «Этика и история в романе “Август четырнадцатого”».
Нервный рассказ о том, как в начале 70-х она порывалась, и все не могла подвигнуться, и мучилась сомнениями, написать ли об этом романе то, что она думает, то есть раскритиковать Солженицына.
«…К трудностям, так сказать, профессионального порядка добавляются соображения нравственные. Допустимо ли, честно ли критиковать то, что запрещено хвалить?.. Не подкинешь ли тем самым хворост в костер, на котором автора морально поджаривают?
По всему этому я и положила в ящик стола статью, написанную мною еще год назад…
Почему же сейчас я отказываюсь от своего вынужденного молчания? Ведь в судьбе писателя ничего не изменилось…
Я отказываюсь от своего молчания, потому что прочитала рукописный сборник статей “«Август четырнадцатого» читают на родине”. Сопоставив улюлюкающий тон нашей подцензурной прессы с почти религиозным преклонением большинства авторов этого сборника, я подумала, что читателям может пригодиться моя попытка добросовестной критики».
Сомнения не оставляли автора. Права она была или неправа, что запустила свою статью в самиздат? И вопрос, который не может не задать себе более или менее думающий читатель: кто же от этого пострадал больше — Солженицын или она? Она, конечно. И от кого больше? От властей или от единомышленников, тех, кто поспешил сделать из Александра Исаевича идола? А потом, после его возвращения на родину и выхода двухтомника «200 лет вместе», поторопился публично раскаяться в этом.
И тут сам Бог велел снова обратиться к нему, к Дезику, как звали его близкие ему люди, к числу которых я не относился, о чем теперь с запозданием пожалел. Были, конечно, знакомы, встречались по разным поводам, в разных аудиториях и компаниях, но подружиться не пришлось.
Сам поэт до мозга костей, сам кумир, Самойлов задумывался не только о творческой стороне дела, но и о психологической. Его занимали манеры, поведение тех, кого волна вынесла на самую вершину читательского, зрительского и проч. интереса. Сам там побывав, он мог не понаслышке судить о феномене «исповедальной прозы» и «эстрадной поэзии», у которых, по его же, Самойлова, словам, «оказалось спринтерское дыхание».
— Незрелое общество так же безоговорочно возносит, как и отрицает.
— Нимб оракула и пророка, которым добровольно окружила Солженицына интеллигенция… колебать, казалось, не пристало никому…
— Атмосфера инфантильного приятия. Стыдливого конформистского восхищения.
— Вопрос о нравственной оценке чрезвычайно остро стоит в нашем так называемом мыслящем обществе. По существу, оно отказывается от оценок… полагая, что бездействующие не смеют оценивать действующих, не совершившие — совершивших. Это настоящая чепуха.
И тут уже мягкий переход к «совершившим»:
— У нас нет питательной среды для выдающейся личности… Она вынужденно приобретает черты и замашки унитаризма и тоталитаризма, непререкаемости и нетерпимости.
И оглушающий вывод:
— Ничто больше не сближает нашу правящую проходимскую элиту с нашей страждущей интеллектуальной эссенцией, чем презрение к народу.
Впрочем, не такой уж оглушающий, если вспомнить и подумать, как события развивались дальше. Мои Тетради — вещественные, in kind, и виртуальные — просто переполнены угнетающими дух иллюстрациями припечатанного мэтром.
С тех пор как ушел из газеты, много воды утекло. И на такую высоту волна политическая закидывала, такой ответственностью наделяла, что и сейчас при воспоминании дух захватывает. Входил в Совет обороны, состоявший из пяти человек, из которых двое были Горбачев и Ельцин. Это еще при жизни, так сказать, Советского Союза, между первым и вторым путчем, как я неизменно называл события августа и декабря 1991 года.
Заведовал продвижением за рубеж всей культуры страны, был первым лицом во внешнеполитическом ведомстве в критический период в судьбе «одной шестой», послом в трех странах, сначала при Горбачеве, потом при Ельцине, пока не рассорился с последним. После чего оказался здесь, в одной из Скандинавских стран, и повел жизнь на два дома. Что, на мой взгляд, вполне в духе времени.
И теперь, читая свои нерегулярные записи тех турбулентных лет, об одном лишь сожалею, что все чаще и чаще минуты не оставалось, да и сил, чтобы cо стилом в руках приподнять дерматиновую обложку очередной Конторской книги. Другими словами, последние советские и первые постсоветские годы манкировал этим своим то ли хобби, то ли обязанностью.
Но недаром говорят: гони природу в дверь… Фиксировать, порою чисто рефлективно, автоматически, то, что попадалось на глаза, плыло в уши, стало уже второй натурой. Рука сама собой тянулась если уж не к Тетради, то к текущему блокноту, который всегда в кармане, к календарю, что лежит на столе, просто к клочку бумаги, который обладал спасительной способностью выныривать откуда-то в нужный момент.
А что-то из корявинок просто застревало в памяти, особенно если поделишься услышанным с окружающими. Кстати и о «корявинках».
Впервые это слово соскользнуло с языка, когда защищал какой-то нормальным человеческим языком написанный абзац в проекте речи перед молодежью генсека Брежнева. Как главному редактору «Комсомолки», мне было поручено представить проект. Утверждал, защищая свой вариант в дебатах с его помощниками, что шероховатости, они же корявинки, только украшают речь, и устную, и письменную. Согласились только, когда припер оппонентов к стенке Пушкиным: «Без грамматических ошибок я русской речи не люблю».
Как все-таки он умел простыми словами сказать о самых сложных вещах!
«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» — это мотто из «Разговора книгопродавца с поэтом» стало девизом, когда довелось создавать ВААП после присоединения страны к Женевской конвенции об авторском праве.
Словом, корявинками называл все живое, непричесанное, что слышал и что попадалось на глаза, независимо от авторства — письмо девчушки из целинного совхоза или заявление главы государства. Из уст Горбачева, например, нештатное выражение довелось услышать один лишь раз. Это в конце ноября 1991 года, когда он приехал в МИД поблагодарить меня за трехмесячное министерское служение и провозгласить Эдуарда Шеварднадзе, который не раз уже фигурировал на этих страницах, главою наспех созданного ведомства — Министерства внешних сношений. Я спросил его перед началом мистерии, не без подтекста, признаюсь, будет ли и мне дано слово на заседании.
— Борис Дмитриевич, …на мать (прямым текстом, разумеется), ну не сыпь ты соль на раны! — воскликнул он с неподдельным страданием в голосе.
И за один этот его неконтролируемый выкрик я был готов многое ему простить. И простил.
А вновь созданный бюрократический монстр под указанным выше названием не просуществовал и двух недель. Как, увы, и страна.
…С овладением компьютером с его Word’ом, а там и Интернетом, и электронной почтой клавиатура и экран побудили вернуться к давней, но не забытой привычке на регулярной, можно сказать, основе. Электронная память заменила собой физические Тетради. Клавиатура — перо и пишущую машинку.
Мелькнуло где-то, что, согласно опросам, играми с электроникой забавляется чуть ли не половина взрослого населения Соединенных Штатов. Дети изрядного возраста, как сказал бы Салтыков-Щедрин.
Я и не заметил, как возможность сравнить «век нынешний и век минувший» перестала быть просто увлекательной игрой, а стала необходимым занятием, к которому неумолимо подталкивали кнопки мыши. Вот и снова — нажал указательным пальцем правой руки на левую кнопку. Побежала вверх безразличная ко всему лента строк, но палец, который, казалось, поднимался и опускался произвольно, каждый раз останавливал эту ленту вовремя.
Неожиданно возник вопрос: если думать о публикации, рассортировывать ли то, что накопилось, по темам, или просто идти за временем?..
И не вернее ли всего просто отдаться на волю… ассоциаций. Как к тому, говорят, призывает постмодерн. Он же, пресловутый, пусть и отвечает за нехватку формальной логики, неорганичность связок. Так же как и за многочисленные троеточия, эти палочки-выручалочки.
«Кто виноват?» — спрашивали чеховских мужиков, и они, вздыхая, отвечали: «Земство, кто ж».
Толчком может послужить что угодно. Имя, событие, политический или научный термин, дата, географическое название… Структура или тональность какойнибудь фразы, оказавшейся в поле зрения или слуха… Старая запись или только что возникшая на экране, которая, в свою очередь, побуждает порыться в энергично накапливающихся нео архивах. Да и в Тетрадях. Словом, как у Пушкина:
Плывем… Куда ж нам плыть?