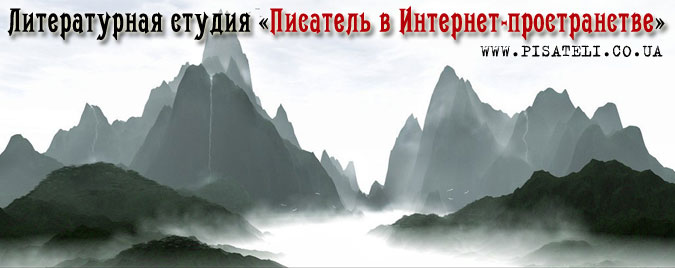Больничный угол
- Подробности
- Категория: Юрий Коноплянников
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 1319
Схватило прямо в метро. Жене даже не смог позвонить. И куда? В Карловы Вары, где она отдыхает – воду пьёт и всё такое (жена в этом возрасте, когда за пятьдесят, как будто бы есть, но как будто бы уже и нет – она удалена ровно настолько, насколько это терпимо, при том, что никакие чувства, кроме горя, и то ненадолго не способны теперь сблизить её с мужем, как с мужчиной, связать в одно целое). А дочь… Дочь уже три года, как живёт в Америке. Ей и подавно ни о чём не сообщишь.
После укола стало легче, однако врач «скорой помощи» не посоветовал ехать домой, а тем более на дачу, где в каникулярные дни Антон Павлович Шобутной собирался дописывать диссертацию и куда в сущности и держал путь, застряв в подземке, когда тормознула, как показалось в ту пору – во время приступа – навсегда, «почечная колика». Молодой, лет двадцати восьми, врач, запросив по телефону свободные места, запугав Антона Павловича и одновременно успокоив, сказав, что тот, сдав анализы и, не пожелав остаться, может возвратиться восвояси, повёз Шобутного в одну из горбольниц, что рядом с домом оказалась на удачу.
Но вот какое безрадостное зрелище открылось его глазам, когда, выйдя из «скорой», едва ступив на свежий, пушистый, жёлто-белый от вечерних фонарей февральский снег и сейчас же попав в тусклый, длинный-предлинный коридор приёмного отделения городского лечебного заведения, Антон Павлович сразу же, на собственной шкуре испытал резкий, бытовой контраст между тем, что оставалось позади – за пределами больницы – и тем, что обнаруживалось впереди: люди пребывали тут строго в зимней одежде (сидели или бродили в ней все, кто поступил и обратился за помощью, без исключения). А медперсонал был одет не в белоснежные халаты, как принято, а в телогрейки даже не в армейские (зелёные), что указывало бы на военное положение, а в гражданские (землистого цвета), что не указывает ни на что иное, кроме как на полный развал медицинского хозяйства, когда в стационаре нет элементарного – тепла и соблюдения норм и правил санитарно-эпидемиологического характера.
Врач «скорой» передал Шобутного непонятно кому – какому-то подозрительному брюнету лет тридцати пяти, в телогрейке землистого цвета, небритому, похожему на тех, кого именуют лицами «кавказской национальности» – и исчез. Брюнет в расцвете лет, почему-то косивший под страшно усталого старца, к тому же, не скрывая это, а, наоборот, демонстрируя, завёл непонятно зачем (так как то, что он делал в дальнейшем могло происходить и в отсутствии больного) Антона Павловича в холодный и плохо освещённый кабинет, затем, не снимая стёганку-душегрейку, без малейшего к тому повода, то есть без осмотра, сел составлять историю болезни. Когда же Шобутной сказал, что не намерен здесь задерживаться, полный безразличия и апатии больничный доктор без всяких уговоров закрыл историю и выписал справку, уведомлявшую о том, что пациент находился в приёмном отделении с диагнозом «почечной колики». После чего этот «кавказец» показал, куда надо идти, чтобы сдать анализы, а сам, как и врач «скорой», бесследно исчез.
Сдав анализы и в течение минут тридцати подождав результаты, Антон Павлович Шобутной направился было к выходу, но хмурая и единственная, кто был в белом халате, женщина, медик-лаборант приёмного отделения, отговорила, сказав, что с такими отрицательными данными, на которые прямо указывают только что произведённые лабораторные исследования, передвигаться по городу в одиночку, без сопровождения очень рискованно.
Непривычно тусклый жёлтый свет обнажённых, одиноких лампочек-висюлек, болтающихся на длинных, изогнутых проводах в большом коридорном пространстве, действовал на психику ещё пагубнее, чем признак разрухи – от недостатка электричества Антон Павлович всегда раздражался, точно подросток незрелый. Но в данном случае, когда, чтобы вылечиться, необходимо остаться в больнице, Шобутной решил не сопротивляться, не спорить с судьбой. Он вернулся к кабинету, в котором принимал врач-брюнет, и никого не обнаружив там, присел на банкетку, что стояла вдоль стены, рядом с дверью кабинетной, и, преодолевая недовольство, стал ждать безразлично-бездушного своего эскулапа, а тот как назло не появлялся. И спросить, главное, куда он делся, некого было.
Больные поступали, но не к тому, кто нужен был Антону Павловичу, а именно на них он и рассчитывал. Он надеялся, что среди вновь прибывающих обязательно найдётся такой, которого направят к доктору «кавказской национальности», и последний сам, без вызова со стороны Шобутного, появится.
Если честно, так Антону Павловичу не очень-то хотелось снова видеться с «кавказцем», потому что при составлении истории болезни, в момент, когда Шобутной рассказывал врачу о приступе, случившемся в метро, ему, как человеку многоопытному, хоть ничего и не сведущему в медицинских вопросах, связанных с наркологическими заболеваниями, крайне подозрительным показался собеседник. Больничный доктор, задавая односложные, тягучие вопросы, выглядел человеком, явно не отвечающим общепризнанным правилам нормального поведения. С нескрываемой досадой можно было говорить, что тип этот находится на работе либо в состоянии тяжёлого похмелья, либо слегка уколотым, либо чем-то там обкуренный – глаза докторские смотрели беспредметно и пустынно (в зрачках не видно было никакого отражения, кроме тускло маячившего светового лучика – всё от той же лампочки-висюльки).
Справка, составленная и выданная врачом-брюнетом, походила на какую-то раздрызганную буквограмму или скорее символику слов с отчётливо выраженными начальными буквами и каракулями внутри, с одной-двумя внятными буквами посредине и где-нибудь в конце. Например, там, где типографски пропечатано «Справка дана гр-ну», врачом-брюнетом написана фамилия пациента таким образом – «Ш»… «б»… далее идут кренделя и в конце «у». Имя, отчество – «А»… кренделя «П»… «чу». Всё говорило само за себя. Можно было безошибочно констатировать, что в подкорке медика-«кавказца» явно блуждал какой-то раздрай человеческого сознания (сигнальная система не сходилась с тем, что воспроизводила рука). Отсюда исковерканное, невразумительное, сокращённое по максимуму, буквописание.
На фоне этого предрешённого, гибельного медицинского распада особенно изумляюще и сказочно-героически, почти поднебесно выделялись отдельные больные и их родственники, а то и просто близкие люди, сопровождавшие несчастных. Шобутной внимательно присмотрелся к стопроцентно седому, лет шестидесяти пяти или семи, господину в затрапезном, дачном виде, срочно, должно быть, выдернутому из домашней обстановки, с элегантной манерой общения, исполненной высокочувствительным жизненным ритмом, присущим многим москвичам, воспитанным в духе послевоенной эпохи прошлого века и вслушался в то, что он говорил, припадая к беспомощно лежащей на каталке-«носилках» старушке, лет восьмидесяти пяти, одетой в демисезонное коричневое пальто и тёмно-синий из толстой, плотной трикотажной ткани платок, ноги которой заботливо были прикрыты домашним, истёртым, байковым одеялом в виде пледа. Как этот господин просил виновато и бережно: «Мама! Ты не бойся. Здесь будет лучше, а мы с Татьяной не смогли бы так часто тебя навещать одну дома». И гладил он её ласково, и нежно-нежно разговаривал, и так же, как в детстве, щекой своей о плечо её тёрся, и целовал материнские, безнадёжно постаревшие и иссохшие, руки. А старушка лежала и беспомощно, как кроха малая, в застывшем молчании, со страхом отчаяния взирала на господина-сына своего, не желая расставаться и в то же время сознавая неотвратимость данного факта. Горькая сцена взаимной любви, когда два человека глядят друг на друга, грустят и делают вид, что прощаются ненадолго, а на самом деле навсегда. Это напомнило Антону Павловичу безысходность собственной сыновьей участи, по которой даже такого простого, горько-сладкого мига, ему не дано испытать. Мать Шобутного, уроженка России, такого же возраста, что и старушка, лежащая сейчас на каталке-«носилках», осталась в чужой стране, в осколке бывшего СССР, на окраине его – в азиатской части.
Что может человек, когда ему за пятьдесят, когда всё решают деньги, а он по-прежнему институтский работник – доцент кафедры квантовой механики, и никакое богатство ему не светит, кроме уже нажитого – квартира, дача, машина (и та, считай, не на ходу, то и дело что-то выходит из строя, ныне вот: почему он и поехал на метро – карбюратор полетел). Практически всё поколение Шобутного осталось на бобах – не догнать, не перегнать Америку (экий ловкий, бессменный приём со стороны управителей обществом, да: «Догоним и перегоним Америку»?! Так и идёт игра в перегонки вместо ответа за жизнь своих граждан), а «свои» мочат по чёрному – вот уже и льготы в деньги переводят, а где, скажите, можно деньги заработать, так чтоб их без нужды хватило (кого предать, продать или списать со света за то, чтобы получить эти деньги?!). Раньше русский человек говорил и заботился о величии страны, народа, о достижениях и прочем, а теперь вынужден только собственные деньги считать – там обманули, тут обокрали – нет времени чем-то иным заняться (надо деньги – каждую копейку, ежесекундно! – считать, иначе не выживешь). Деньги в России отменили все моральные принципы, да когда это было, скажите, пожалуйста, чтобы Россия шла на поводу у денег и только у них?! Не смог Антон Павлович Шобутной свою матушку возвратить на родину и по делом ему (само поколение и виновато, что позволило так обойтись с собой) – не вкусить уже тех радостей душевных, что испытывают люди, заботливо и по-родственному искренне склоняющиеся друг к другу.
На ещё одной каталке-«носилках» двое парней везли что-то третье – жалкое, щуплое, еле живое. Не человека, а прямо существо какое-то внепланетное без лица и без глаз. «Не жилец!» – пронеслась и погасла в не седой ещё голове Антона Павловича эта чёрная мысль, всегда поражающая воображение своей обыденностью. На какталке-«носилках» лежало некое бездыханное, человеческое тело в трико задрипанном, совдеповском, с разбитой головой, затянутой окровавленными бинтами, и периодически не подавало никаких признаков жизни.
Никто из медперсонала не интересовался, что с существом сим случилось. Все только и знай требовали полис – страховое медицинское свидетельство. Нет свидетельства-полиса, стало быть, и обслуживать пациента никто не будет. Несмотря на черепно-мозговую травму, его не станут принимать в больницу. Его не будут осматривать и оказывать даже первую, необходимую, медицинскую помощь.
Однако те, кто сопровождал бедолагу – низкорослый крепыш, представший, как выяснилось в ходе развернувшейся битвы за жизнь ещё теплющуюся на каталке, родным братом пострадавшего и второй, породистый, статный и требовательный, громко о себе, как о друге, заявивший, не по годам строгий, в тёмно-сером костюме и с мобильным телефоном – полны были решимости за существо своё, бесконечно им дорогое и необходимое, бороться. Один из них, тот, что брат, настоял на том, чтобы его выслушали медики. Второй, назвавшийся другом, запросил по мобильному телефону у кого-то из сильных мира сего помощь. В том, как действовали они, двадцатилетние, спортивные ребята, прочитывалась бойцовская хватка, так необходимая сегодня, когда ценность и смысл человеческой жизни поставлены под сомнение.
Брат наклонился над братом и умолял: «Ты только не умирай!». Друг наклонился над другом и также просил не сдаваться, держаться до победного. Внимал ли их просьбам тот, к кому обращались – это уже не столь важно. Важно, что молодые люди словами и поступками демонстрировали готовность и способность защитить: не бросить в беде близкого, родного человека, а отстоять, вылечить, поднять на ноги. И они добились своего – их третье, их дорогое, родное «существо» взяли, положили в больницу без полиса, без страхового свидетельства. С тем условием, что, конечно же, в первой половине следующего дня этот необходимый документ они обязательно представят.
Много раз проходившая мимо Антона Павловича представительница медперсонала, работающего в регистрационном «зазеркалье» приёмного отделения, там, где за стеклопластиком с окошечками и настольной лампой, размещаются женщины-медики, оформляющие вновь прибывших больных, обратила всё-таки внимание на сидящего с кислой своей физией Шобутного. Подстёгнутый ею Антон Павлович вскочил и, переходя к «зазеркалью», поспешно, с пониманием, как того требует медицинская дисциплина, отрапортовал, что торчит здесь, так как решил остаться в больнице, из-за врача-«кавказца», которого почему-то всё нет и нет.
Представительница медицинского персонала (иначе тут никак её не назовёшь, не обозначишь – других форм, кроме безликого общения, у нас в таких случаях не предусмотрено) скоро сообразила, о каком враче идёт речь, уточнять ничего не стала и взяла на себя оформление Шобутного.
Кстати, как бы кто ни возмущался отсутствием табличек у медицинских работников на груди, где, как на Западе, пишутся для удобства общения фамилия и имя, но куда у нас их вешать – взять хотя бы конкретный этот случай, когда разруха в больнице господствует, – на телогрейку что ли?!
Сколько истрачено денег, сколько сил вбухано в уничтожение нашего прошлого ради того, чтобы мы жили по-американски, а мы всё равно живём и будем жить по-русски. И вопросы задаём и будем задавать по-русски – в соответствии с тем, что имеем.
Сдав затем кожаное пальто и ондатровую шапку, неотъемлемые предметы состоятельности того поколения, к которому принадлежал Антон Павлович, он сел в «Волгу-пикап» с красным крестом на дверцах и через мгновение был доставлен, куда полагалось – в больничный корпус урологического отделения.
Коридор отделения принял Шобутного ещё более безотрадно, встретив холодом и всё нарастающей безнадёгой по части возможного выздоровления в здешних условиях.
Чуть оживила скорбное положение медсестра Наташа, знакомство с которой было удивительно приятным и тёплым, но в то же время не оставляло никаких перспектив на взаимность. Большеглазая, синеокая девушка слишком была молода. Завидев Антона Павловича, она, хоть и вскочила резво, выказав явное расположение, однако это ничего не значило – находясь на дежурстве Наташа сидела, накинув на медицинский халат телогрейку, и не поворачивала лишний раз черноволосой головы, покрытой белой косынкой с красным крестиком на лбу; экономила, по всей видимости, силы, так как действительно было по-настоящему холодно тут. От самих коридорных стен, обрамлённых высокими, тёмно-зелёного цвета, крашенными панелями, сквозила стынь. Вот и вскочила, надо полагать, Наташа для того, чтобы согреться.
Сев вновь за стойку, предназначенную для работы медсестёр, лицевой частью из-за узости прохода прижатую к стене и стоявшую перед изгибом, в месте тэобразного соединения двух коридоров, продуваемом со всех сторон потоками больничных ветров, Наташа в тусклом сиянии настенной лампы дневного света, напоминавшей бра, начала писать что-то в своих тетрадях-журналах. За её спиной с изрядным постоянством взад-вперёд продолжали «косяками» сновать больные. Всё те же лампочки-висюльки одиноко и броско болтались на длинных проводах. То и дело скрипели и хлопали туалетные двери. А мужики к тому же, в отличие от не по больничному приподнятых женщин, как бурлаки с живописного репинского полотна, понуро плутали по коридору в основном с висячими, прозрачными трубками (катетерами) и пластмассовыми формовками, похожими на «грелки», для сбора мочи. Унылое, скажем так, они производили впечатление.
Никакого ужина, конечно, быть уже не могло. Время с трёх-четырёх часов дня, с момента, когда случился приступ, за оформлением, прохождением (длительным прохождением!) ещё и рентгена подкатило к половине десятого вечера. Буфет, насущность которого порой так необходима, отсутствовал. Хотелось пить – непременно чаю: крепкого, наваристого, индийского, с синим слоном, – того самого, с детства любимого. Но это было совершенно невозможно из-за того, что нельзя возвратиться домой, хоть он и рядом. Слава богу, подвезло ещё с тем, что в сумке, с которой ехал на дачу, лежали и спортивный костюм, и тапочки, и зубная паста и щётка, и туалетное мыло, и несколько пар носков и две футболки, – всё новенькое, свежее, словно в подарочном магазине женой приобретённое перед поездкой в Карловы Вары.
Странно, однако, во времена совдепии Антон Павлович преуспевал, а сейчас жёнушка его Полина идёт в гору. Преуспевает она, правда, в той мере, в какой позволительно – благодаря Полине они не бедствуют и то ладно. А коль говорить напрямую и без особого предвосхищения чего бы там ни было, то объяснить это можно элементарно: других возможностей человеческого процветания просто не стало. Они ликвидированы… Ну, не быть никому из тех, кого представляют доцент Шобутной и его жена Полина, богатыми (куда призвана нынче Россия – обогащаться как можно сильнее, последовательнее и настойчивее) – не испытать им усладу капиталистического рая с его безбрежным изобилием и техническим суперсовершенством, а сверху (правительствующие!) всё гонят – (душат законами в пользу богатых, растаптывая и превращая в безмолвную толпу бедных) тишиной земной не дают напитаться… Ничего, кстати, новаторского в сфере прежней конструкторской деятельности Полины нет. Просто качество продукции бывших «оборонщиков» привлекает иностранцев. Тем и кормится предприятие, на котором работает жена Антона Павловича.
В палате обстановка оказалась совсем другой – атмосфера значительно предвосхищала общую, больничную. Здесь окна чуть ли не во всю стену, как по высоте, так и по ширине. А так как это ещё и угол здания, то недостатка в противоположность от замкнутого коридорного пространства в наличии их не обнаруживалось – два больших, широких окна располагались по левую руку от входа (это на торцовой стороне) и прямо в противоположной от входа несущей стене здания также находилось большое и широкое окно. За окнами на больничном дворе – шёл белый-белый снег, благодаря чему кряжистые деревья казались разодетыми в зимние, пуховые наряды, на которые продолжали опускаться крупные, увесистые, снежные хлопья, кружащие, словно осенние листья на лёгком ветру, а в качающихся лучах фонарно-столбового света буравчатым кручением неслись, струились и тянулись к земле маленькие снежные звёздочки. Дворовое пространство, одним словом, благоухало яркими красками немеркнущей жи разнообразием цвета – жёлтого (фонарного), лунного (естественного) и снежного (чистейшего), – которые играючи смешивались, плавно переходя, переливаясь друг в друга, составляли единый и прекрасный, не гаснущий свет зимней ночи.
По бытовым сравнениям тут было сходство с временем советским. Но настроенчески велико расхождение: при Советах люди поднимались над обстоятельствами, они были выше жизненных невзгод, они знали, что цель выжить и жить – главное достояние человека. А сегодня всё это ни к чему.
Две кровати, условно обозначившиеся в голове Шобутного, как седьмая и шестая, располагались одна за другой по правой стороне вдоль стены. Ещё одна кровать под окном, что напротив входа – была пронумерована им, как пятая. А по левой стороне, всё по тем же признакам, размещались четвёртая, третья, вторая и первая. Они стояли изголовьем к двум большим окнам. Антон Павлович облюбовал вторую (она была свободна, как и следующая за ней – третья), но его выбор пал на вторую. Таким образом, оглядевшись, Шобутной установил, что вместе с ним в палате находятся пять человек (шестую кровать – познакомились тут же, благодаря родственникам в большом количестве толпившимся вокруг – занимал тяжелобольной Виктор Спиридонович, пятую – Сергей, четвёртую – диабетик, вторую – он сам выбрал, первую – лысый любитель кроссвордов в чёрной, шерстяной, спортивной шапке). А всего в палате, это тоже отметил в силу особой привязанности своего физико-математического ума к цифровой конкретности Антон Павлович, могут разместиться семь человек. Что и произошло в следующий и последующий дни, когда за выпиской и убытием одних в палату тут же «заселялись» другие.
Шобутной переоделся, умылся, ознакомился с местом своего больничного пребывания, прошёл, силясь подавить таким способом всё ещё не затихшую боль в правом боку, по всему второму этажу пятиэтажного кирпичного корпуса (времён то ли Сталина, то ли Хрущёва). Здание основательное и монументальное. В центре корпуса Антон Павлович обнаружил мраморную лестницу и вертикальную анфиладу эркеров, проходящих, естественно, через все пять этажей, но расположенных в срединной части между этажами. На лестничной площадке своего этажа возле лифта Шобутной радостно заприметил наличие телефона-автомата и стал в очередь, чтобы позвонить другу школьных лет, с которым года три как нос к носу столкнулись на одном из научных симпозиумов и с тех пор не прерывают добрых и тёплых отношений, каковые особенно дороги, когда детство, отрочество и юность прошли на далёком расстоянии от Москвы, а теперь как-то снова да связан ты с прошлым почти кровными узами. Набрав домашний номер Геннадия Михайловича, он услышал голос именно его – своего школьного друга, сообщил о происшедшем, о том, как попал в больницу, а тот ни с того ни с сего возьми да и ляпни: «Надо же: ты ведёшь такой положительный образ жизни и на тебе – почечные колики!» На этот момент действие обезболивающего укола, что был сделан ещё врачом «скорой помощи», видимо, уже заканчивалось и потихоньку затевала нытьё правая боковая и поясничная часть живота, но пока терпимо, поэтому Антон Павлович решил оправдаться, так как и курить и употреблять спиртное он бросил сознательно наперекор общепринятому, а была бы его воля – он вообще никогда бы не увлёкся этими общечеловеческими «радостями». Всё базировалось на том, что, коль ты не курящий и не пьющий, то, вроде, какой-то и не такой – вывихнутый, какой-то «не до человек», «не до мужик» и прочее. А так как большинство людей продолжало оставаться приверженцами всечеловеческих слабостей и ценностей, Антон Павлович Шобутной не возводил в ранг достоинства свой переход от одного образа жизни к другому, по всем меркам более качественному. «Да, ведь я, – как юнец какой-то (и по делом, конечно; пора усвоить, что из тебе подобных редко кто радуется проявлению высоких волевых качеств у кого бы там ни было) оправдывался перед своим другом Антон Павлович, – за этот образ взялся не потому, что я страшно положительный, а потому, что тот, который ты подразумеваешь под «неположительным образом» я уже не выдерживал. И не выдержал бы – ни морально, ни физически!» Говорить стало не легко, боль нарастала; проявился характерный её признак – стало казаться, что внутренности, тебе принадлежащие, вот-вот прорвут плоть и выскочат наружу.
Шобутной спешно стал прощаться, а школьный друг Геннадий Михайлович пообещал, что в случае затяжного пребывания коллеги-преподавателя, учёного-кандидата физико-математических наук, в больнице, непременно навестит его. Антон Павлович поблагодарил в той же вежливой, «учёной» манере и безотлагательно удалился в палату, где уже потушены были лампочки-висюльки, и больные, кто с храпом, кто со свистом и стонами, спали все напропалую.
Только он прилёг – тут же ярким, жёлтым лучом прорвался из коридора электрический свет, вскочила в палату медсестра Наташа и, прикрыв дверь, в ночной уже тьме попросила помочь отвезти в морг труп, так как на женской половине, в соседнем покое, скоропостижно и сию секунду скончалась старушка, вероятно, та самая, с которой так нежно-нежно, бережно и совсем недавно на глазах у Шобутного прощался сын, отчего стало невмоготу как плохо – не хотелось никак, чтобы это подтвердилось.
— Я бы и готов вам помочь, – намереваясь пойти, сказал Антон Павлович, – но не могу. – Поспешно передумал он.
Вспомнив, что сапоги хоть и не сданы, как положено, на хранение, и стоят под кроватью, куда сам Шобутной их и поставил, где слой мусора, что примечательно, высотой на все пять пальцев в виде медицинских причиндалов – кусков разбросанной ваты, клочков бинта и упаковочной бумаги от прежних больных накопившийся и остававшийся – резко бросился в глаза, когда Антон Павлович знакомился с людьми и палатой, но без пальто и шапки, которые в отличие от сапог сданы всё-таки в гардероб приёмного отделения для сбережения, в одном спортивном костюме будет слишком рискованно в его возрасте щеголять по зимнему, заснеженному двору, поэтому, сославшись на отсутствие верхней одежды, он и отказался. Когда же обворожительная своей молодостью Наташа, полная энтузиазма и недоумения, предложила телогрейку и спортивную шапочку, Антон Павлович отказался вторично, но уже из-за плохого самочувствия, что соответствовало действительности – боль становилась всё сильнее и загоняла в угол так, что впору было головой о стену биться.
Вызвался помочь Наташе Сергей. Это такой продукт российской действительности, гомо сапиенс советской эпохи, способный выжить в любых условиях. У него переизбыток организованной бодрости. Он всегда готов встать в строй по общей на то человеческой надобности. Ему пятьдесят один год. И он горазд ещё дров наломать, порушить, хоть пёс бы что и кого, взамен на то, чтобы только ни о чём не думать, а выживать, жить и поддерживать её – единственную – жизнь. Он успел уже сказать Шобутному, что лично знаком с братом Лужкова, что сам мэр ни хрена не пчеловод никакой, что всё это показуха. А Ельцин – так он никакой не всенародноизбранный, а обыкновенный алкаш и урод, который понадобился тем, кто замыслил уворовать народное добро, почему они и посадили его на верхушку власти. В истории, особенно в российской, таких примеров много было, но привести пусть и один-единственный из них для достоверности Сергей не потрудился. Довольствуясь беспричинностью и обличительным пафосом собственной речи, он продолжал утверждать, что демократии у нас никакой нет и никогда не будет. Демократия лишь то, чем можно прикрыться и стащить побольше, чтобы народ ничего не понял и пуще того – пикнуть не успел.
Медсестра Наташа тем не менее, заслышав как дёргается и корчится на кровати от боли Антон Павлович, пообещала по возвращению из морга сделать ему укол. Впрыгнув в сапоги и нахлобучив шапчонку, выданную Наташей, Сергей выскочил за ней в коридор.
Чтобы никого не тревожить – нечаянным вскриком иль громким вздохом, – Шобутной, спустя какое-то время после ухода Сергея и Наташи, вынужден был всё-таки удалиться из пределов палаты и присесть вне её в дерматиновое кресло возле бочки с тутовым деревом, отделяющим стол дежурной медсестры и несколько коридорных посадочных мест, предназначенных для отдыха больных от постоянно-лежачего положения. Оказавшись один, он внезапно расслабился и забылся.
Когда Сергей и Наташа вернулись, Антон Павлович, вздрогнув, очнулся, выходя из состояния забытья. Вздохнул и, предвкушая, наконец, укол и долгожданное облегчение, добросердечно улыбнулся.
Сергей, небрежно скинув телогрейку на такой же дерматиновый, как и кресло, – где всё ещё сидел распрямившийся и одухотворённый Шобутной, – диванчик. И ни на секунду не задерживаясь, а преисполненный чувством гордости за совершённый им подвиг (переброску трупа старушки из палаты в морг) с чистой совестью ушёл продолжать необходимый для здоровья сон.
А Наташа, повесив свою стёганку на стул, пригласила Антона Павловича в перевязочную, где перед вкалыванием промедола на каком-то бесподобном, волновом уровне произошёл между ними некий биоэнергетический контакт, когда под музыку из транзистора, под «рэп», под «рок», под «ритм-хоп», Наташа ни с того, ни с сего стала вдруг подпевать и пританцовывать: «Я тебе укол. – Ты мне укол». Пританцовывая, она держала иглу и надвигалась на Шобутного, что ничуть не смущало его. Он не подумал о медсестре, как о враче-«кавказце», находившемся под парами какого-то снадобья и демонстрировавшем утрату всякого интереса к медицине и к отдельно взятому, любому человеку. Из Наташи сочилась жизнь и звала испить её соки. И в результате, несмотря ни на какие боли, Антон Павлович захотел вдруг стиснуть её талию и прижать упругие девичьи грудки к своей, ещё не зачерствелой, мужицкой груди. В то же время он сознавал, что годы и пятиминутное знакомство, не позволят этого сделать. Такого характера действия удачно решались – проверено уже! – исключительно в молодости.
Возвратясь в палату, Антон Павлович, присев на мгновение, посмаковал истому, так неожиданно подфартившую, с затухавшей болью смешанную, продолжавшую уносить из темноты, витавшей вкруг кровати, туда, назад – в перевязочную – в новокаиновый туман, к Наташе. Но от холодной, далеко не комнатной температуры, не снимая спортивный костюм, рухнул он вскоре под одеяло, чтобы также, ни о чём не думая, забыться, как все, во сне.
С утра – что опять же не совсем обычно, а скорее подозрительно – ни с того ни с сего на Антона Павловича набросилась махонькая, полная, разбитная и довольно бегучая для своих весовых переизбытков, медсестра, только что заступившая на дежурство. Сменив Наташу – это милое создание, пронзившее сердце Шобутного своим очарованием, – она беспардонно разбудила его и начала стыдить за мусор и грязь, якобы ненароком и в сей именно час обнаруженные под кроватью. Антон Павлович спросонок ничего не понял, а когда до него докатило, в чём тут дело, он немедля поставил на место зарвавшуюся сестру милосердия, указав ещё и на будущее, чтобы впредь никто не смел разговаривать с ним подобным образом. Возмутительнее всего было то, что никто из «старожилов» не вступился за «несчастного», «без вины виноватого» институтского преподавателя, никто не сказал, не указал медсестре на «историческую давность» мусорных залежей. Антон Павлович так прошёлся насчёт общего положения дел в сём медицинском учреждении, что на какое-то мгновение палата и все обитатели её замерли, священным ужасом объятые. И только, когда пожилая дама, родная сестра больного-диабетика, что лежал, не снимая с головы связанную из толстых шерстяных ниток панаму, у стены с окном, на четвёртой кровати, расположенной фронтально от входа и в одном ряду с Шобутным, заявила, что не стоит нагнетать и без того не простую обстановку, что она сейчас возьмётся, да и вымоет здесь пол, натурально произведя полномасштабную и полноценную уборку, – тут вопрос о мусоре сам собой и разрешился, а никчёмный медсёстринский хай остался на совести сумасбродной сестры милосердия, оборотисто развернувшейся и стремглав куда-то смывшейся.
Докармливая своего чудо-чокнутого братца, тоже уже не первой молодости, а доброй старости клеврета (лет семьдесят ему было), одетого в цветные шерстяные носки, гольфы, кофту и прочие не совсем мужские принадлежности, пожилая дама по простоте душевной, и, видно, вопреки положенной диете, предложила:
- Съешь пряник!
— Не буду, – отвернувшись, закапризничал братец.
— Я ж тебе не сало предлагаю, – смешливо и играючи заметила сестра.
Братец-диабетик, подумав, согласился: откусил пряник, пожевал, и совершенно неожиданно отреагировал:
— Жирный! – обозлясь, огрызнулся он.
Чем рассмешил всю палату, за исключением, пребывавшего в беспамятстве, тяжелобольного Виктора Спиридоновича, что лежал на шестой кровати, и его окружения – двух сыновей и жены, которым было не до смеха, так как в капельницу спавшего отца и мужа попала кровь, поэтому втроём они ринулись за только что убежавшей медсестрой, просить помощи.
Нервический Сергей, то и дело ворочавшийся с боку на бок у окна напротив «диабетика» на пятой кровати, вскочил, сунул ноги в тапочки – сразу за один что называется прицел обе ноги, нашарил в тумбочке пачку сигарет и зажигалку, бросил их в карман спортивных штанов и, приблизившись к Шобутному, читавшему какую-то толстую книгу, выходя из палаты подымить да развеяться, на мгновение задержался возле Антона Павловича, по-деловому процедив между тем сквозь зубы, что капитан Блинов из романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» списан с его отца.
У Антона Павловича от пестроты и разнообразия такого пристального со всех сторон внимания к собственной персоне чуть челюсть не отвисла. Он, как страстный любитель художественной литературы, хорошо зная роман, о котором заговорил Сергей, хотел было возразить, сказать, что у Богомолова (автора!) вообще-то не капитан Блинов, а лейтенант, да опоздал – Сергей уже скрылся за дверью. Но суть не в том – по всей очевидности, отповедь, которую только что дал медсестре Шобутной относительно мусора, сподвигла пятидесятиоднолетнего Сергея на какие-то свои мысли, породившие необходимость достойного примера, если не из личной, то из фамильной – точно! – биографии. В очередной раз, ляпнув абы что ляпнуть и обратить на себя внимание, Сергей удалился.
«За кого он меня принимает? – разволновавшись, подумал Антон Павлович. – Я ведь всего лишь заслуженный работник Высшей школы, преподаватель кафедры квантовой механики. А он, этот самый Сергей, спутав, наверно, с кем-нибудь, кого не раз видел на телеэкране, с каким-нибудь Поляковым, автором «Апофигея», или Ерофеевым, ведущим передачи «Апокриф», принял меня за одного из них. Ведь у телевизионщиков, кроме этих двух двоих, и писателей-то больше нет в России. И хоть бы подумал, как мог попасть сюда, в эту палату на семерых человек, что один, что другой из них.» Сглотнув таблетки, на предначертание которых указал послеоперационный сосед по первой кровати справа, готовившийся к выздоровлению и выписке, но продолжавший повсеместно и повсечасно мучить кроссворды (таблетки, оказывается, были оставлены как раз для Шобутного, когда тот ещё спал, однако пухленький бутончик, медсестра-малышка, разразившаяся с утра криком великанши, ему ни о чём не сказала), Антон Павлович, покоробленный ещё и этим обстоятельством, срочно направился к телефону-автомату, чтобы немедленно рассказать своему школьному другу Геннадию Михайловичу, наиболее влиятельному именно в современных условиях в учёном мире человеку, о том бедственном положении, в каком он оказался, попав в эту больницу, где вместо лечения – сплошная нервотрёпка, антисанитария и безразличное отношение к людям. Геннадий Михайлович внимательно выслушал Антона Павловича и трезво, и вполне резонно посоветовал:
— Антон, ты, главное, не дай им влезть в твой организм. Не соглашайся ни в коем случае на операцию. Пройди сейчас всю процедуру обследования, а после, когда твоя Полина вернётся из Карловых Вар, мы и решим, что выбрать – в какую больницу определяться для лечения.
В небольшой столовой, на завтраке, куда случайно между тем забрёл, наконец, со вчерашнего дня ничего не евший Шобутной (теперь вволю насытившийся, а точнее заморивший червяка, так как наесться манной кашей и тремя кусками хлеба вперемежку с мутным, плохо заваренным, пропитанным хлоркой, чаем, никакому мужику невозможно) более интересно смотрелись, что не мог не отметить, сидя в этой необычной «трапезной», Антон Павлович, «халатные» женщины, то есть те, что напяливают на себя разношёрстные домашние халаты поверх ночных сорочек – вид, правда, обшарпанный и в то же время несомненно привлекательный; женщина в таком виде более естественна, так как она жизнеутверждающе превосходна. Мужики же, хоть и не в трусах, что было бы ещё ужаснее, а в спортивных штанах и тапочках, с явно выпяченным рельефом спереди, да и сзади тоже – всё одно какие-то подавленные и растерянные с этими своими, прихваченными из дома, одинокими кружками и ложками. На завтрак, как уже сказано, Антон Павлович опять же случайно попал: шёл мимо после разговора с Геннадием Михайловичем и увидел, как люди, находящиеся за остеклённой перегородкой, аппетитно трескают кашу – Шобутной тут же кинулся в палату за вчера ещё приобретённой с подачи «старожила этих мест» Сергея у медсестры Наташи кружкой и ложкой. Если бы Антон Павлович своевременно не появился возле больничной «трапезной», остался бы без завтрака, на который – так теперь принято в наших больницах – никто, никого персонально не приглашает и куда без личной кружки и ложки приходить заказано.
У кабинета кардиографической диагностики Антон Павлович познакомился, как это зачастую бывает, когда встаёшь за кем-нибудь в очередь, с армейским майором, тут же не упустившем случая рассказать не только о том, как сюда попал, но и о том, какими страданиями омрачена его жизнь.
На кардиограмму, кстати, Шобутной отправился опять-таки не по прямому указанию лечащих работников, а по подсказке соседа, того, который, сидя справа от Антона Павловича, скрестив ноги на кровати или находясь в полулежачем положении, беспрерывно разгадывал кроссворды. Поскольку питался сосед этот исключительно тем, что приносили из дома, то практически он не покидал палату, а, стало быть, больше, чем кто-либо из присутствующих, был посвящён в происходившие события. Ему-то и давались всякого рода поручения от медперсонала. Он и сказал, что забегала медсестра, когда все были на завтраке, и просила, чтобы передали больному Шобутному, что ему срочно необходимо сделать кардиограмму.
И Антон Павлович, как учёный, как педагог, как дисциплинированный человек, без промедления взялся выполнять предписанное – начал искать кабинет кардиографической диагностики. Спустившись на первый этаж и далее – по какому-то цокольному этажу попав в промозглое подземелье, соединяющее какие-то бесконечные складские помещения, используемые, видимо, для прохода только по случаю аварийного состояния в надземном ярусе, пройдя к стоящему на сваях переходу, связывающему разные корпуса, их, сталинский или хрущёвский, и более современный, скорей всего – брежневский, в котором погрузился, наконец, в кабину лифта, чтобы подняться на двенадцатый этаж, где и располагалось это самое задвинутое в жизни, как показалось Шобутному после муторного плутания в подземелье, место медицинского обследования, очередь к которому была довольно внушительной.
А на армейского майора Антон Павлович обратил внимание ещё в приёмном отделении, когда тот, не будучи одетым в военку, браво маршировал от одного медицинского кабинета к другому с командирским видом на лице в полном недоумении оттого, что не было видно здесь настоящего дела – не происходило раздачи и выполнения команд, хождения строевым и других особо важных для всеобщей занятости мелочей. Обратив, таким образом, внимание, что некий молодой мужик, атлетической корпуленции и военной выправки, собирается тут на скорую руку выразить что-то весомое и громогласное, Шобутной удовлетворился этим обстоятельством, поскольку сам обладал боевым характером. Майор же со смешной фамилией Борт по имени Вадим (что стало без промедления тут же всем известно, так как он охотно и привычно представлялся своим новым знакомым в зелёных фуфайках) с убедительной определённостью всерьёз намеревался в момент всех построить да навести здесь, наконец, хоть какой-то порядок. Года ему было, наверно, тридцать три. Не больше. Это-то и оптимизировало ситуацию. Выходило, что «мочекаменная болезнь» или «почечные колики», или «камни в почках» – не возрастная прерогатива сугубо таких, как Антон Павлович. Поэтому Шобутной, садясь на уже привычный, дерматиновый, больничный стул, который уступил ему тридцатитрёхлетний майор Вадим Борт, довольно энергично поинтересовался:
- Что, тоже «почечные колики»?
- Ага! Так точно! – отрапортовал майор. – Пошёл на дискотеку – бабу там снял. Пришли к ней домой, брюки расстегнул, наклонился, чтобы их сбросить и всё. Приступ!
Он засмеялся и, стоя облокочённым о стену, не поленился оторваться от неё, изобразить наклон и приступ так, словно замкнули чем-то поясницу, а хуже того – в зад воткнули что-то. Точно, как в анекдоте, когда к доктору входит пациент и говорит, что у него там цветок. Доктор предлагает снять штаны и вскрикивает: «И вправду цветок!» А пациент: «Доктор! Это вам!» В чём-чём, а в лицедействе майору, как и многим военным, не откажешь: изображают они не хуже любого профессионального паяца. Специфика такая – варятся ведь в гуще народной.
Смеясь и увлекаясь воспоминаниями, майор не стал скрывать, что весь разлад его житейский из-за жены произошёл, которую привёз в Москву из-под Улан-Удэ, где служил раньше, когда ещё только старшим лейтенантом был. Привёз на свою голову. Получил трёхкомнатную квартиру, а она теперь выставляет его. Гонит из собственного жилья. Всё потому, что работать пошла в ресторан, к «кавказцам» – красивую жизнь, деньги почувствовала (прежде-то, в окрестностях Улан-Удэ, когда в лесу жили, ни о чём таком не помышляла). Теперь вот развод требует, не желает жить с тем, у кого денег, видите ли, нет, чтобы семью кормить. Вызвала из-под Улан-Удэ тупоголового отчима своего, пенсионера, бывшего прапорщика того самого полка, в котором майор как раз и служил старшим лейтенантом, и выживают хозяина из квартиры. А детей двое – девочка и мальчик. Как в этой ситуации быть, как её разрешить – тут просто повседневное, оскорбительное, безысходное и крайне изуверское для старшего офицера положение.
Антон Павлович собрался было посочувствовать, какой ни на есть да совет дать, но очередь подошла, и Вадим Борт шагнул в кабинет кардиографической диагностики. Исповедальный и для больниц наиболее присущий разговор оборвался, так как следующим в очереди на обследование был сам Шобутной. С майором они, стало быть, на этом расстались, но лишь для того, чтобы в дальнейшем, как и заведено в подобных случаях, оказавшись рядом, вновь продолжить начатую тему.
Когда Антон Павлович возвращался после кардиограммы, шагал по коридору своего урологического отделения, то вынужденно обратил внимание на одну из медсестёр, важную такую особу, которая, убирая мужской туалет, часто выскакивала из него и на ломаном русском, с сильным кавказским акцентом кричала:
- Пы – зы – сиралы тут всо!!!
Накануне, поутру, когда из тех посетителей, кто активно навещает больных, ещё никого не было, медсестру эту Шобутной наблюдал в палате – она устанавливала капельницу Виктору Спиридоновичу. И по тому, как небрежно, рывками передвигала она стойку с колбой и трубками, вкалывала тяжелобольному, не глядя куда и безжалостно, иглу, становилось понятно, что вопрос профессиональной этики в больнице давно не поднимался.
Чистка туалета, видимо, единственно возможный приработок для младшего медицинского персонала. Тогда чего орать? Уборка, если на то пошло и есть – сраная работа. И коль другой у тебя нет – это и есть та самая, без которой не обойтись. Социализм закончился и поровну получать теперь никто не будет.
Вообще медсёстры ведут себя так, будто сами никогда не окажутся здесь. А быть может, надеются, что с ними обращение будет другим. «Как бы не стало хуже, – явно вступая в предполагаемый спор с медицинским персоналом и самим собой, подумал Шобутной, – глядя-то на вас не улучшишь положение!»
Его сосед, выдающийся специалист по разгадке кроссвордов, когда Антон Павлович вошёл в палату, радостно сообщил, что тот пролетел с осмотром – зав отделением и лечащий врач уже сделали обход.
— Хочешь, смерь температуру. Градусник вон на тумбочке лежит, – предложил сосед.
— Да, она тут, вроде, никому не нужна, – выразил сомнение на сей счёт Антон Павлович.
— Это точно! – встрепенулся Серёга, всегда готовый блеснуть «универсальной просвещённостью» своей. – Она никому тут не нужна! Висит вон на каждой кровати указатель температурный. А кто в него чего-нибудь и когда-нибудь записывал? При царе Горохе ещё – в советское время разве только!
Сестра диабетика, гремя оцинкованным ведром, стуча шваброй, хлюпая тряпкой, расплёскивая воду, принялась мыть пол и прервала отъявленного оратора, записного трибуна на полуслове, чем очень огорчила больничного златоуста. Сергей загрустил было ненадолго, но тут же, вскочив, привычно впрыгнул в тапочки и ушёл курить.
А к Антону Павловичу подбросили, иначе не скажешь, соседа на кровать слева – азербайджанца, который едва лёг, не раздеваясь, сразу и захрапел. В тот самый миг, когда Шобутной сам вознамерился поспать. Заснуть же при наличии чужого храпа ему никогда ещё не удавалось, поэтому из положения «лёжа на животе – вниз лицом», он резко повернулся на спину, глубоко вздохнув при этом.
Меланхоличным взором пробежав по палате, Антон Павлович остановил свой взгляд на Викторе Спиридоновиче и на тех, кто стоял и сидел возле него – на жене, сыновьях, на родственнице, которая только что появилась… Шобутному, как свидетелю и невольному участнику ни на секунду не затухающего в течение дня разговорного процесса, известно было всё о каждом. Так, о пришедшей родственнице он уже знал, что это – бывшая жена умершего несколько лет тому назад брата-двойняшки, от той самой болезни, которой в настоящий момент страдает и сам Виктор Спиридонович, поэтому её предыдущий опыт по уходу за больным имеет большое значение в данный момент и требует частого присутствия.
«Все эти люди, близкие люди, искренне хотят помочь Виктору Спиридоновичу и, наверно, правильно делают, что толпятся вокруг. Однако, какие бы чувства они ни вкладывали, какие бы надежды ни вселяли в него – результат от них не зависит. Все они гораздо больше, чем сам больной, заслуживают сострадания, потому как – не способны обеспечить выздоровление его. Хотя в самой процедуре – сопричастности, сочувствия, сопереживания, – совершаемой ими, безусловно царит и преобладает животворящая сила». – К такому выводу пришёл Антон Павлович, глядя на семейство, собравшееся вокруг Виктора Спиридоновича.
Появился в палате ещё один, гипнотической силы, субъект – Григорий Петрович Соломка. Дед, которому поначалу, навскид Антон Павлович определил возраст лет в семьдесят пять. А тому, как выяснилось, – девяносто четыре на самом деле. Родился Григорий Петрович, как и все тут присутствующие, ещё в прошлом веке, но значительно раньше, чем все остальные – аж, в одна тысяча девятьсот девятом году. И за время своей долгой жизни заработал-таки аденому предстательной железы, камни в мочевом пузыре и ещё много чего, о чём тут же, как и в случае с майором Бортом, стало известно окружающим. Держался, однако, при этом превосходно. Держался так, что молодым мог бы фору дать.
Застилая, к примеру, постель, Соломка свалил букет гвоздик, что от прежнего пациента остались, размещавшегося на том же месте, что и Григорий Петрович (цветы в пластмассовой бутылке стояли, срезанной наполовину; потому она и опрокинулись от неустойчивости с тумбочки), и вода залила постель. Весьма расторопный для старческих своих лет Соломка не растерялся, аккуратно всё бельё снял и развесил на батарее. Просушил. Вслед за тем, не прибегая ни к чьей помощи, сам застелил кровать и, повесив на спинку стула пиджак от тёмно-коричневого костюма из лавсана, не снимая, естественно, брюк, прилёг поверх одеяла, впав в глубокую задумчивость.
В это время откуда ни возьмись возник электрик, строго на строго предупредивший, что он чинит свет. Выключив в связи с этим две жалкие лампочки, тускло освещавшие огромную палату в семь коек, он в коридоре, за стенкой, принялся за работу. А Григорий Петрович, главный стариковский недостаток которого состоял в том, что он был глуховат, поэтому, не слыша грозного предупреждения, выскочив в коридор – как узрел-то! – где находился выключатель, он включил последний. В результате чего электрика долбануло током (хорошо, что не на смерть): влетев в палату, он взревел белугой. А Соломка, дедуля – божий одуванчик, возвернувшийся на своё обжитое место – на кровать, сел посредине оной да ресницами хлопает – он ведь глухой, он ведь плохо слышит.
День, как ни тянулся длинно, а пролетел. По ходу его Антон Павлович несколько раз звонил друзьям и знакомым, несколько раз общался с тридцатитрёхлетним майором, часто фланировал по коридорам, лицезрел больничное подворье. Изыскивал, одним словом, для себя занятия, так, чтоб не думать о болезни. Посчитал своим долгом взять и взял под опёку старика Григория Петровича Соломку: водил его по закуткам больничного отделения, показывал, где что есть, объяснял, как и чем пользоваться. С большим интересом слушал биографию, задавал старику вопросы. Вопреки всеобщему мнению, что все полковники МГБ, а таковым и являлся дедушка Соломка, – звери, Антон Павлович не считал, что это так. И с удовольствием слушал историю жизни старого, отжившего век и спокойно взиравшего на мир человека.
С тридцатого года Григорий Петрович в Советской Армии. Отсюда у него обязательные – мытьё рук перед столовой; походные, тщательно ополаскиваемые после принятия пищи, кружка и ложка. Он небольшого роста, с подтянутым животом (истовая выправка с довоенных лет), семенящая, состоящая из мелких, но стремительно бегущих шажков, походка.
Новым поколениям диковато, наверно, будет слышать, так как это теперь заграница, что призван в армию Соломка из Полтавской деревни. Начинал служить в Карелии, а перед самой войной оказался на строящемся в Подмосковье военном объекте в должности начальника охраны, в звании старшего лейтенанта войск НКВД. Вспомнил, как накануне начала войны с начальником строительства и командиром своим выпили у него на даче, а на рассвете, когда вернулся с гулянки и залёг спать, раздался стук в окно. Григорий Петрович решил, что кто-то в «самоволке» побывал и что-то натворил, набедокурил, пока командир роты, сам он, то бишь, отсутствовал. Ан, нет, в окно барабанил дежурный. У него в штабе передали по радио, что началась война. Соломка срочно кинулся в штаб, позвонил командиру на дачу, тот тоже, как и все, спал на рассвете, доложил о сообщении по радио. Мгновенно проснувшийся командир, позвав к телефону штабного дежурного, приказал немедленно арестовать паникёра – старшего лейтенанта Соломку, распространяющего ложные слухи, и Григорий Петрович несколько часов просидел под арестом, пока не подтвердилось официально, что вероломный враг повсюду уже топчет российскую землю.
Всю войну Соломка прослужил в СМЕРШ(е), дошёл до Пруссии и был переброшен на Дальний Восток, где участвовал в разгроме войск милитаристской Японии, что и было продолжением Великой Отечественной и окончанием Второй мировой. А после войны Григорий Петрович служил в МГБ, откуда и уволился в пятьдесят третьем году в звании полковника. (Его, конечно, уволили. Но он утверждает, что сам подал рапорт.)
У всех у нас представление, телевизором и средствами массовой информации навязанное, о том времени примерно такое: по стране разъезжают телеги и машины с клетками, а люди, передвигающие этот транспорт, по указанию свыше, и сопровождающие его, всех прохожих без разбора хватают и бросают в те клетки.
Нет же, конечно, не так всё было. Люди и жили, и веселились, и страдали, и влюблялись и любили (и на коньках даже катались – на каток ходили; и страсти рвали – почему же нет?!), и верили, что у советской власти есть настоящие враги. Они и были. И есть друзья. Их привечали. Когда Григорий Петрович вспоминал своё прошлое, то качественно преображался – глаза сияли ярким огнём неугасимой молодости.
Уже в сгустившихся сумерках, при тёмно-синем свете, отражавшемся в больших окнах эркера, и при не везде ярком освещении на лестничной площадке, в очередной раз подойдя к телефону-автомату, Антон Павлович опять натолкнулся на хвост очереди, содержащий двух дамочек из неврологического отделения, первая из которых всё жаловалась кому-то из подруг:
— Я уже не знаю, что с этой старухой делать, – говорила она. – Только я возвращаюсь в палату, она слезает с кровати, снимает памперсы и писает на пол…
А вторая, тоже мало-вменяемая, лет сорока женщина, ведя телефонный разговор, всё норовила доказать «ненормальной» своей мамочке, как та не права в том, что с попаданием дочери в больницу, прекращает заниматься квартирным вопросом – продажей жилья, когда надо сходить к нотариусу, заверить доверенность и продолжать дело. Для этого необходимо навестить, наконец, дочь в палате, взять её паспорт. Паспорт, между прочим, надобно, наконец, поменять, так как жить дальше с паспортом, на котором написано «СССР» больше невозможно. Об этом обо всём она говорила в течение дня уже не раз. И от раза к разу всё активнее, горячась и перевозбуждаясь. Утомительно, но приходилось Антону Павловичу интеллигентно ждать и терпеливо выслушивать этот бред.
Шобутной поднялся пролётом выше, туда, где находилась площадка с эркером, где перед глазами за окном открывалась вечерняя панорама опускавшейся в ночь жизни, полная, скорее зримой, чем слышимой, гармонии, космической тишины и простора (небесной дали); где на подоконнике курили Сергей и майор Вадим Борт, где Сергей обучал этого самого сосунка-майора житейской мудрости.
— А, – говорил он со своеобразной аргументацией (с матерком то есть). – На! Я фермером работаю. Что? Я разорён! Так-то. Что правительство? Пойди – дадут. Догонят, да ещё дадут! У меня и банька там. И всё в Рязанской области. Чумичку одну подобрал с улицы – теперь работает у меня. Я натурой с ней расплачиваюсь. Она там, цыпка эта, в тепле, как надо. Думаешь, как, зачем вся эта мудянка с фермерством затевалась? Да, чтобы ничего понять нельзя было, а только рушить, красть и красть! Чтобы и фермер, и любой обыкновенный гражданин считал себя во всём виноватым и не мог никому, кроме себя, счёт за разруху предъявить.
Сергей курил и стрелял глазами, пренебрежительно зыркая по сторонам, зазывно пытаясь втянуть Антона Павловича в свой никчёмный спор. Шобутной не поддавался. «Как это он складно врёт-то, – думал Антон Павлович, глядя на брызги снежных хлопьев за окном, где чистый, февральский снег клубился и дымил, искрясь в фонарных лучах городского, дворового света, – ведь только что в палате говорил совсем про другое. Говорил, что работает в автосервисе. Что крутые машины чинит. И живёт припеваючи, в своё удовольствие – каждую секунду кайф ловит. Даже вот здесь в больнице, прямо сейчас, например, готовится пойти к сыну, дом которого за больничным забором стоит. Сын позвонил по «мобильнику» и позвал отца пивка попить. А, между прочим, ни у кого из здесь лежащих такой возможности нет. Нет к тому же ни у кого, кроме Сергея, и мобильного телефона, обеспечивающего двустороннюю связь. Да ещё жена, которая была бы из местных, из больничных, не у всякого найдётся. Сергей же себя таковой обеспечил – захомутал её тут, не отходя от кассы и в связи с длительным пребыванием в стационаре. Одна из медсестёр, пусть и не из первого урологического отделения, куда относились и Сергей, и Шобутной, а из второго, из хирургички, куда не относился ни тот, ни другой, попалась на эту удочку. Завтра она с утра придёт на смену, будет кормить и капельницу ставить. Так что непонятно тогда: по какому поводу Сергей так чихвостит сейчас власть, матеря её и в хвост и в гриву.»
В это время пробарабанили и распахнулись тяжёлые, металлические двери лифта – выехал оттуда на носилках-«каталке» дед, которому на вид, ну, точно, сто лет в обед исполнилось (так измождённо выглядел старик), хотя, как стало позже известно, он оказался на шестнадцать лет моложе девяносточетырёхлетнего Григория Петровича Соломки.
Дед лежал и, несмотря ни на что, сладко ухмылялся. Две молоденькие медсестры из приёмного отделения катили его на место азербайджанца, который три часа тому назад храпел и не давал спать Антону Павловичу, а теперь уже выписан. Оказывается, камушек его, сидевший в мочеканале, «продавили» какими-то массированными уколами, и он выскочил.
Необходимо тут сказать, что незадолго до убытия азербайджанца выписался и буквально ускакал домой и сосед, который лежал справа от Антона Павловича. Тот, что разгадывал кроссворды. Шобутной переместился на его кровать. А кровать эту плотно облегали стены, и когда Антон Павлович попробовал ещё при азербайджанце заснуть – это плохо получилось не только потому, что «гость с Кавказа» сильно храпел, а ещё и из-за того, что мёрзла голова (от стен – они ни на сантиметр ничем не прогревались – тащилась назойливая стужа). И тогда стало ясно, почему больные, спящие в тех местах, в углах, где нет батарей отопления, надевают на свои головы вязаные шапки. У Шобутного вязанки, естественно, не было, поэтому спать предстояло, как в турпоходе, залезая под одеяло и накрываясь с головой.
Антон Павлович, стоя возле Сергея и майора, дожидаясь, когда две безумные тётки из неврологического отделения, наговорившись, наконец, уйдут, будучи наедине со своим мыслительным аппаратом, домысливал, таким образом, происходившее в больнице, придавал ему математически законченный, существенно-оформленный вид. А когда телефон-автомат освободился, он быстро спустился и набрал номер декана физико-математического факультета.
О! Эта была женщина его мечты. В свои пятьдесят она выглядела на сорок. Зажигательная. С выдумкой. Без комплексов. Лёгкая на подъём. Она могла бы стать его женой. Его судьбой. Но этого не случилось и уже не случится. А жаль – только в кино можно всё повторить и добиться всего, что захочешь. Впрочем, на этот раз светила удача: Шобутной дозвонился (охнул, ёкнул: ужом крутнулся, массу слов наговорил, ласковых и нежных, и цели достиг – декан согласилась выступать оппонентом на защите его докторской диссертации, а это значит несколько дней совместной работы, несколько дней они будут вместе). Антон Павлович был на десятом небе от счастья.
В приподнятом настроении, придя в палату, Шобутной обнаружил, что постель не только из-под азербайджанца занята (на неё положили белоруса – деда Ивана с «каталки»-носилок, выскочивших из лифта), а и та, на которой он сам провёл свою первую ночь, обжита новым постояльцем. На постели этой разместился некий Вован, шестидесяти семи лет от роду, с распухшей мошонкой. Антон Павлович, на этот раз ни к чему уже не проявив никакого интереса, опрокинулся на своё ложе и уткнулся в книгу.
Однако Вован, обретя столь благородного соседа с книжкой в руках, тут же стал непринуждённо стонать и постанывать, кряхтеть и покряхтывать, и каждое соприкосновение с собственной мошонкой сопровождать протяжным звуком «эс – с – с – сс!», ища тем самым сочувствия и сострадания.
Шобутной же, точно студентик молоденький, ничего не слыша и не слушая никого, продолжал читать и зачитываться неким доступным лишь ему фолиантом. Продолжал не обращать ни на кого внимания. И читал-то, если присмотреться, нечто странное – книгу Чезаре Ломбразо «Гениальность и помешательство». Зачем она ему? Зачем это человеку, который давно пережил возраст Христа и шагнул за планку пятидесятилетних? Зачем вообще физику Чезаре Ломбразо?!
Вряд ли кто-либо смог бы ответить на так(!) поставленный вопрос. Да и никому это не надо в медицинской палате, где каждый обеспокоен глубиной личных переживаний. Вот, взять хотя бы Вована, озабоченного кряхтением. Он кряхтит-кряхтит да возьмёт и выдаст что-нибудь – этакое невероятно справедливое. Затеял, к примеру, всё тот же главный трибун палаты Сергей рассуждение о бедных и богатых. О том, как всех, кто здесь лежит, оскотинивая и оболванивая, нагрели чубайсы, абрамовичи и потанины. «Теперь вот купайтесь в говне», – сказал он. Но тут же услышал в ответ восставший вскрик Вована, который, будучи на пенсии, продолжал гордиться пролетарским прошлым – профессией крановщика, жизнь посвятил которой.
— Если мы бедные, – возвысил голос Вован, – почему мы должны жить, как собаки?!
Возмущённый вопрос этот вверг в какой-то идиотический смех соседа, лежащего по другую сторону от Вована, того, которого только что положили на место азербайджанца – семидесятивосьмилетнего и, оказывается, совсем слепого деда Ивана, родом из Белоруссии. Непонятно даже, что заставило слепого(!) в такой наглой форме оборвать Вована и тут же впасть в жалкую тоску по прошлому.
— Я вот раньше, – отсмеявшись, сказал он, погружаясь в ностальгию, – возьму себе «чекушку» и четыре пирожка, сяду на лавочку и отдыхаю.
Судя по всему, людям, лелеявшим мечту о таком отдыхе, теперь уже не остаётся места на земле: деда Ивана доставили сюда из интерната. От него отказались дочка и внуки. Слепого, старого, больного человека бросили на произвол судьбы. Его, по словам медперсонала, привезли из интерната потому, что не может помочиться.
На самом же деле через два-три часа после поступления в палату, когда все уже залегли спать, то есть через некоторое время после отбоя, Иван не только нассал мимо утки, но и навалил по большому (хотя утверждал, что утка для него не в новинку и с ней он вполне справляется – давно на «ты»).
Начался, скажем так, постепенный, медленный, уколистый прикол этого покинутого людьми и Богом старца. Он стал издеваться над ночью, над миром, над окружающими (ни то, ни другое и ни третье он не видел, не ощущал и потому проявлял к ним долю цинического восторга, перемешанного напополам с чувством злобы ко всему невидимому и самостоятельно существующему). Он стал орать: «Дайте пить!» Когда кто-то отзывался, он хватался за этот голос и требовал: «Дай пить, б…дь!». «Сестра, – кричал на всю палату, – воды!» Никакие просьбы, никакие уговоры не помогали. Он ловил смак от такого измывательства. С водой же никто к нему не торопился из-за того, что кровать уже обоссал.
Шобутной готов был пришибить старика. Он вразумлял деда Ивана. Он говорил, что в палате – люди; тяжелобольные, что они хотят спать. Ничто не помогало. «Дай воды, б…дь», – орал Иван. И всё тут. «Сволочь. Тварь. Животное», – неслось со всех сторон в адрес обезумившего старца. А он то и дело передразнивал: «Сволочь? Ага. Тварь? Тоже. Животное? Конечно. Сейчас я тебе расскажу… Падла…»
Напоил, наконец, старика Вован, почивавший (мучившийся) рядом, на средней между Антоном Павловичем и дедом Иваном койке. Смилостивился на свою голову: у него яйцо распухшее, красная, точно ошпаренная, мошонка, а он милосердие, знай, проявляет и, сквозь слёзы поднимаясь с кровати, встаёт. Дед Иван отблагодарил, не промедлив (тут же пустил струю и опрокинул щедро подаренную бутылку с водой на своего благодетеля, на Вована).
Всё-таки Антон Павлович и в эту ночь, несмотря на буйство безумного старца, храп диабетика и стоны тяжелобольного Виктора Спиридоновича, погрузился в нечто похожее на сон или в бред от него. Так это было или нет? Спал он или, как ему кажется, вовсе нет? Наяву это происходило или во сне – этого никто уже никогда не узнает.
В той ночной жути, как-то избавившись от неё, отделившись, чётко ощутив себя в углу, не зажатым в кругу кошмара, а удалённым из него – ниже, в стороне, как угодно лежащим и парящим, дремлющим, спящим в чёрной полутьме, Шобутной напрягся от видений, нисколько не удививших и не поразивших его, лишь осязаемо вскрывших тамошнюю, потустороннюю реальность, которая всё чаще начинает проявлять себя в пределах земной очевидности. Перед Антоном Павловичем на каком-то воздушном уровне по команде Главного – некоего, скажем так, Сотника – проносился некий вихрь, затем выстраивался некий строй в виде клина (или свиньи, если пользоваться старинным воинским обозначением данного действа) каких-то зеленоватых существ, донимавших несчастного тяжелобольного Виктора Спиридоновича, допекавших его и терзавших, влетавших в тело бедняги и беснующихся там. (Никто с Шобутным не собирался вступить в контакт, как любят у нас заявлять на каждом шагу о «пришельцах» из «миров недоступных», не прозреваемых. Существа были вполне прозреваемы и занимались конкретным делом – истязанием. И никто из реального мира не мог их ни спугнуть, ни помешать им. То, что смотрел на них и видел их Антон Павлович – на это им было совершенно наплевать. Главное, что существам всё было доступно). Тут же подумалось: «Это только кажется, что вокруг нас одни зримые очертания – люди, например; деревья за окном, снегом запорошенные; вороны, порхающие и орущие над больничным двором. Не тут-то было, не так всё: плотность бесплотных существ, вероятно, так реальна, что наличие её прямо встаёт перед глазами». Шобутной в явь, воочию сподобился лицезреть, как несчастный тяжелобольной Виктор Спиридонович бьётся за жизнь, а толпы ощерившихся, злобных существ, наслаждающихся разбитием души человеческой, добиваются его погибели. Как бы там ни было, а на рассвете Виктор Спиридонович скончался. Умер буднично и не придя даже после ночи в себя. Трепыхнулся и застыл. А ещё накануне ничто не предвещало этой смерти: сыновья, жена у изголовья – милые, участливые. Особенно старший. Младший, тот всё по мобильнику в коридоре судачил, назначал свидания, с кем-то о чём-то договаривался (судя по всему он от жены ушёл и вовсю кобелился). А старший, так он, наверно, где-нибудь на социальной лестнице чуть выше, чем все остальные, здесь присутствующие, стоит. Лицо требовательное, брови сдвинуты. Кажется, захоти он только – всё подвластно будет ему. Но смерть не остановишь. Тут ни приказ Лужкова, ни рявканье Ельцина не помогут. У смерти своя работа, безостановочная – всё как на конвейере! Тут земное, а там иное. Когда же Виктора Спиридоновича вывезли в морг, когда настало утро, когда появились растерянные родственники, не найдя дорогого им человека на больничной койке – всё разрешилось как-то само-собой. Родные поплакали, повздыхали-поохали, больные им посочувствовали. На том и расстались. Тем и завершилась ещё одна страница земного бытия. Смерть ничего не изменила.
Утро пошло своим чередом: предвкушался завтрак, ожидался больничный обход и осмотр. Вован продолжал всё стонать да постанывать. Серёга всё крутился с боку на бок, листая и пристально останавливаясь на каждой странице какого-то красочно иллюстрированного, модного журнала, типа «Скандал» или «Современные женские секреты», или «Интим», или ещё какой-нибудь модерновой дребедени в том же духе, пока не появилась его местная краля – жена, медсестра из первой урологии. Отбросив журнал, Сергей оживился, стал давать Веронике, так звали его медицинскую спутницу, ценные указания, разговаривать исключительно поучительным тоном, не забывая, конечно, употреблять и какие-то ласковые слова. Не врал, выходит, относительно умения устраивать личную жизнь. Вероника в первую очередь разложила перед ним на тумбочке завтрак, немного погодя принялась готовить к подключению капельницу, а неуёмный «сын» «капитана» Белова из высочайшего художественной силой романа «В августе сорок четвёртого», уплетая за обе щёки домашние котлеты в прикуску с малосольным огурцом, ржаным хлебом и двумя свежими помидорами, взялся опять «митинговать»:
— Вот по телевизору, – рубил правду-матку современного «новорусского» бытия Сергей, – там какие-то люди всё время входят в какую-то мировую экономику, развиваются, растёт у них ВВП, растут экономические показатели, валютный запас страны. Ну, и так далее. А зарплату как не выплачивали по полгода, так и не выплачивают. Простые люди как перебивались с хлеба на воду, так и перебиваются. А у них всё растёт – богатые становятся всё богаче, бедные всё бедней. Раньше я работал на одном месте. И всё у меня было стабильно – государство на меня опиралось, я за государство держался. А сейчас в десяти местах корячусь – ни денег, ни государства, ни славы, ни чести.
Но и в этой нервозной обстановке, когда все на взводе от болей, бессонницы, холода, когда, то и дело кто-то затевает публичную полемику, когда обезумевший старец не даёт никому ни сна, ни отдыха, – больные проявляют чудеса героического, не показного милосердия. Вован угостил белоруса Ивана яблоком. Витяй, бульдозерист по специальности, поступивший в палату сразу после убытия в морг Виктора Спиридоновича, положил на тумбочку обездоленного старика бутерброд с колбасой и высказал беспокойство, что дед в силу своей слепоты может расколотить себе башку, так как всё время крутится, ложится поперёк кровати, а на пути у этого кручения такие мощные опасности-препятствия, как – две тумбочки, батарея парового отопления и, что самое ужасное, – подушка Ивана именно в эту батарею упирается. И именно ему, слепому, досталась ещё и эта самая кровать, где в головной части отсутствует доска, служащая опорой, сдерживающей и отделяющей соприкосновение с инородными и вредными для головы предметами. От слов Витяя Антон Павлович расчувствовался и, обратившись к белорусу Ивану, предложил принести ему завтрак.
- Нет, не хочу, – устало заявил дед.
— Как же так, – озадачился и устыдился ночной своей ненависти к Ивану Шобутной, – есть надо, а то недолго и ноги протянуть, когда есть не станешь.
- Нет, – задумался и тут же отказался старик, – не хочу.
Антон Павлович не выдержал дальнейшей озабоченности, связанной с Иваном. Его чувствительность провоцировала слезу, а это было бы очень не к месту, поэтому Шобутной вынужден был удалиться в коридор, где беспечно прогуливались майор Борт и его спутник, сосед по палате – молодой, щекастый, довольно упитанный, чуть выше среднего роста таджик, вид которого, казалось бы, при его габаритах должен быть могутным, здоровым и всепобеждающим, а у этого – виноватый, жалобный и не состоятельный. Таджик буквально ходил за майором по пятам и только что в рот не заглядывал – весь благодарностью исходил за то, что русский офицер не отринул его, а избрал в сотоварищи.
«И вот что интересно. – Словно пребывая в русле физико-математических исследований, рассуждал о любопытных социальных явлениях Антон Павлович. – Тут и «азиаты» и «кавказцы» занимают, можно сказать, койко-места москвичей. А люд московский, что лежит в палатах, не возмущается, а, наоборот, сострадает. Даже Серёга, митингуя по этому поводу, защищает бывших собратьев по Союзу, он говорит на сей счёт: «Они на уличных рынках стоят, на стройках как рабы пашут, промерзают до костей и попадают сюда. Это ведь мучение – такая жизнь». Этакий международный сговор простого люда, единый в проклятиях к тем, кто когда-то в постсоветском пространстве называли себя «всенародноизбранными», кто развалили Союз, довели большую часть населения до ручки, обобрали и бросили ни с чем, переводя всё на деньги и не оставляя никакой возможности их заработать. А лишение льгот, случившееся в России, – это та духовная сторона вопроса, когда человек усердствовал ради какой-то определённой цели и во благо своей родины и тут ему взяли и сделали «кердык», переведя всё на деньги, накинули удавку. Власть не оставила таким образом никакой цели человеку, кроме денежной, что для российского общества, если не полная катастрофа, то духовный крах совершенно очевидный, так как церковь пока что не заполнила и вряд ли скоро заполнит те пустоты, какие образовались в результате крушения социалистической морали, культуры, идеалов коммунизма.
Больничный клозет, куда заскочил и откуда тут же выскочил Антон Павлович, всякий раз приводил его в содрогание, ужас и стыд. Во-первых, у кабин туалетных отсутствовали дверцы. Во-вторых, не было унитазов (естественные надобности «по большому» приходилось совершать на корточках и, можно сказать, у всех на виду). Мусорные баки были переполнены различного рода человеческими и больничными отходами (туалетной бумагой, обрывками газет и журналов, окровавленной ватой и бинтами). Стоял, бросался в глаза, переполнял ноздри и грудь не выветриваемый ничем запах мочи и хлорки. Этот запах исчезал минут на тридцать после влажной уборки. Но медсестра, та самая, кавказской наружности и с кавказским акцентом, войдя сегодня ранним утром в клозет, снова закричала:
- Пы – зы – с – ра – лы тут всо!
Выразив таким способом возмущение, она ушла делать основную свою медсёстринскую работу.
«А клозет, – отметил, как днём ранее, так и сейчас и, что характерно, почти в унисон с прежними мыслями, Шобутной, – это, по всей видимости, её побочный заработок. Ну, так и трудись, чтоб получать его. Чего орать-то? Уборка, если на то пошло, – это и есть грязная работа. Но, коль другой нет, так это и есть та самая, без какой не обойтись. Социализм, где все нации равны, кончился. Сейчас равны только те, у кого есть деньги. А она, видите ли, протестует. Ушла, и больные должны нюхать смрад клозетный».
Выйдя из туалета и взглянув в окно, Антон Павлович увидел, как во внутреннем больничном дворике со своего роскошного, чёрного «Джипа» зав отделением любовно сметает снег. Там же стоит новенькая «Тойота» лечащего врача.
«Конечно, – продолжил свои размышления Шобутной, – у врачей не должно быть проблем ни с машинами, ни с жильём, ни с отдыхом. Но и у больных не должно быть проблем с лечением и с условиями, в которых они пребывают. А то ведь как осваивается капитализм в России – сначала машина и крутая жизнь для начальников, а там уж – куда вырулится! На всех уровнях такой омерзительный подход: с любовью к делу, но с презрением к человеку».
Ещё накануне у Антона Павловича мелькнула зловещая мысль: а что, если в этой больнице именно по такому гадскому сценарию, в основе которого сплошное злодейство заложено, всё и разыгрывается – осмотра так и не было, медсёстры работают спустя рукава, белоруса Ивана в палату завезли, чтобы от тяжелобольного, от Виктора Спиридоновича, избавиться (надоело за больным ходить – устроили психушку).
Да и сам Шобутной – ненужные глаза и уши для больницы. Ночью, к примеру, когда старик-белорус спать не давал, Антон Павлович неудачно и некстати выступил.
Из-за того, что уговоры на деда Ивана не действовали, и он продолжал дебоширить, палату пришлось покинуть. Шобутной оказался в столовой, где дверь не закрывалась на ночь, а из раздаточной, фанерой от зала разделённой, хорошо слышны были песни его молодости (санитарка, что кухней заведовала, уходя, забыла выключить радио), и в лёгком полумраке (из коридора проникал глухой, неяркий свет от одиночной лампочки-висюльки) Антон Павлович, нынешний институтский преподаватель, гоня прочь тяжёлые мысли о дне сегодняшнем, присев за столик, с наслаждением окунулся в мир песенной красоты, мелодичный и дурманящий самыми яркими эпизодами этой вроде ещё близкой, но уже навсегда ушедшей жизни. Шобутной до такой степени растрогался: как ребёнок, право, сожалея, почти что со слезами на глазах, что из прошлого не взято самое дорогое – доброта; она якобы себя не оправдала, поэтому вот и тиражируется жестокость. В этот самый момент возьми да и войди медсестра.
- Почему не спите? – спросила она.
И Антон Павлович, не сдержав себя, не стесняясь в выражениях, излил всё, что накопилось за два дня пребывания здесь, самой безвинной виновнице – медсестре, пухлощёкой и расстроенной от происходившего в палате не меньше самого Шобутного, который не мог, не ругаясь, излагать своё возмущение. Он был безжалостен, говоря:
— Этот номер с белорусом. Со слепым стариком. Этот номер даром вам не пройдёт. Я потребую ответить, почему поместили его именно в многоместную палату, где находятся тяжелобольные, а не в какую-либо другую и по прямому назначению – психо-неврологическому, например?!
Пухлощёкая медсестра, заступившая на дежурство во вторую ночь пребывания Антона Павловича в больнице, настолько растерялась и расстроилась, что не нашла никаких других слов для оправдания, кроме тех, что произнесла беспомощно:
— Видите, – сказала она, – дежурный врач в сегодняшнюю ночь как назло не из нашего отделения. С ней не поспоришь.
— Этот ваш дежурный врач, – вспомнив, как в течение всего неспокойного вечера по любому поводу буйно влетала к ним в палату с полыхающим румянцем на лице рыжеволосая женщина в шёлковом белом халате и тёмно-зелёных брюках, торчащих из-под пол халата, Антон Павлович возмущённо повысил свой голос, – орала, как прораб на стройке. Она нагнетала, создавала нервозную обстановку. Её специально что ли к нам приставили? – строго потребовал ответа Шобутной. – Чтобы спросить не с кого было?! Чтобы можно было сказать, а она не наша? Так, да?!
— Не знаю, – зажав ладонями зардевшиеся щёки, точно охлаждая их, медсестра торопливо вышла из столовой.
С таким вот итогом ночного поведения Антон Павлович предстал перед больничным начальством. Доигрался, можно сказать. Начался обход. Шобутной прошёл в палату и лёг, как положено в подобных случаях, в кровать. Начали не с него, начали с правой стороны, с Григория Петровича Соломки:
- Камушки-то есть? – спросил бывшего полковника НКВД лечащий врач.
— А полный мочевой пузырь! – сожалея, но бодро ответил девяносточетырёхлетний Григорий Петрович.
Шобутной тут заметил, что заведующий отделением (кстати, очень похоже, что тоже с Кавказа, а это сходу бросалось в глаза и рождало вопрос: уж, не торгуют ли в больнице должностями?!), хоть и смотрит на старика Соломку, а левый глаз свой косит в сторону Антона Павловича. Откровенно ему что-то не нравится. Явно, как это и следовало ожидать, отчитываясь за ночь, пухлощёкая медсестра слово в слово передала нелестные высказывания Шобутного и о больнице, и о беспорядках в ней. Вот и не доволен заведующий-«кавказец». Только Антону Павловичу глубоко на это уже начхать. Он принял важное решение: незамедлительно сказать, как всё кругом и гадко, и казённо, и зловонно!
- На что ещё жалуетесь? – спросил лечащий врач Григория Петровича.
- Холодно, – поёжился тот.
— Что сделаешь! – разведя руками, воскликнул доктор. – Мы тут ни при чём. Предпринимаем всё, что можем, а денег нет.
Узнавая всё больше подробностей об отставном энкэвэдэшном полковнике, Шобутной соотносил их с диктатом тех бесконечных потрясений и перемен, какие творились и продолжают твориться – что в царстве, что в государстве российском. И невольно задумался над тем: а что собственно улучшают или ухудшают эти перемены.
Он узнал, например, что Григорий Петрович живёт с внуком и его семьёй. Жена внука, кстати, за два дня три раза уже побывала здесь. Живая, общительная бабёнка, лет двадцати семи, вежливая и внимательная, что Антон Павлович особенно подчеркнул, переговариваясь накоротке со стариком, по пути из столовой – только что – после завтрака. «Конечно, – согласился Григорий Петрович. – Как же иначе! Я ж им квартиру оставляю».
Шобутной, нисколько не радуясь обстоятельству, при котором мерилом человеческих отношений становится исключительно вещественный интерес, подумал в те прискорбные минуты: «Квартира – это фактор неоспоримо важный для того, чтобы к тебе относились хорошо. Наличие квартиры и состояния; если ты их имеешь сегодня, да ещё и даруешь наследникам – считай, повезло: наверняка тобой станут дорожить и внимательней, и с любовью относиться к тебе. Но раньше почитался сам человек, его возраст, его заслуги, а не состояние и деньги. И это было настолько естественно и так гармонично соответствовало тем великим художественным находкам и открытиям, какими изобиловало отечественное кино, театр и литература, когда показывались наши мечты о хорошем, не замешанном на корысти, воплощёнными в жизнь. Что вовсе не так уж и плохо (теперь, когда этого нет, особенно остро всё понимается), если искусство занимается гуманизацией, а не тем паскудством, которое происходит ныне повсюду, когда паскудят и поганят человека и всё, что связано с ним». Вот и выходило, что ничего хорошего в отношении личности «новые перемены» не несли. Хорошо, конечно, если бы продолжали главенствовать и утверждаться в породе и в природе человека, как и прежде, душевные качества, а не один голый капитализм, чтобы не ставились на первое место материальные блага, как превосходство над всем, что животворит мир. Но ставка сделана: люди стали средством для выкачивания денег.
Памятуя об этом, Антон Павлович жалостно и с состраданием посмотрел на Григория Петровича, потому как нечего было тому предложить врачам, чтобы согрели его теплом. В то же время в Шобутном закипало и рвалось наружу наболевшее в течение двух ночей и трёх дней от тутошнего пребывания.
Наконец, заведующий отделением и лечащий врач подошли к койке Антона Павловича. Когда Шобутной понял, что в их руках уже есть все анализы, все показатели рентгенов и прочих лабораторных исследований, он несколько подрастерялся оттого, что может ждать его, поэтому, не прибегая пока к возмущению, предупредительно сказал лечащему:
— Точечно ноет и тянет в правой почке, не затихая.
- Чуть вверху – над ней, на кончике её? – спросил врач.
— Да, – подтвердил Шобутной и удивился, что это известно. – Я бы хотел знать, каков диагноз?
— Небольшой отёк, – пояснил лечащий, – почечного происхождения. Одним словом, диагноз ваш – мочекаменная болезнь. Мы вас выписываем: попьёте травку, а через восемь месяцев, так полагается, не забудьте сделать УЗИ.
Врачи ушли и двери за ними громко захлопнулись. Антон Павлович не сразу сообразил, что его просто выкинули вон, дав понять тем самым, что если хочет окончательно выздороветь – пусть платит.
«Куда ни ткнись! – внутренне содрогаясь, стиснув зубы, озлился Шобутной. – Со всех сторон неприкрытые намёки: «Вот если бы за деньги – всё бы было по-другому». Да, ничего подобного! Всё было бы так же: заплати ты сверх- баснословные деньги – получишь то же самое, если не хуже».
Антон Павлович решительно засобирался домой. Его подтолкнуло к такому быстрому согласию с бесповоротным приговором врачей прежде всего то обстоятельство, что не требуется никакого оперативного вмешательства в его организм; что появилась возможность рассуждать о больничной койке не зависимо от неё, а со стороны, находясь за пределами медицинской разрухи. А это в свою очередь обеспечивало перспективу обязательного выздоровления. Потому что та обстановка, в какой Шобутной здесь пребывал, ничего, кроме мнительности, недоверия и страха, не производила. В обстановке, когда врачи в той же степени подозрительно, что и ты, глядя на тебя, не говорят, а намекают и не договаривают то, что имеют в виду, можно подлечиться, но чтобы вылечиться – никогда! Поэтому свою выписку Антон Павлович воспринял как подарок судьбы. Ограничившись скрытым, внутренним бунтом, он решил уйти из больницы спокойно, молча и незамедлительно.
— Вот ведь ворона, – неожиданно и как-то даже «каркнув» по-вороньи, довольно зычно прозвучал за спиной Шобутного голос Вована, – она же явное имеет преимущество перед нами.
Антон Павлович, повернувшись к окну, увидел, привлёкшую внимание Вована, птицу, сидевшую на дереве и чистившую клюв. А Сергей, проходя мимо (и на этот раз следуя, видимо, к одной своей цели – покурить и насладиться табаком), бросил на ходу:
— Типа того, – подмигнул Сергей, – что я сейчас взмахну крыльями и улечу отсюда на х…?!
— Ну, да, – обрадовался столь «красноречивому» и скорому пониманию со стороны больничных своих сотоварищей Вован, – мы-то, люди, получается прикованы, привязаны к месту! А она – вспорхнула и улетела.
Шобутной вспомнил тут соответствующую этому сравнению речёвку студенческой поры, восхищавшую тогдашних сверстников его: «Хорошо быть кисою, хорошо собакою – где хочу пописаю, где хочу покакаю». И рассмеялся, присоединившись к уже смеющимся сразу после сказанного – запузыренного! – Сергеем.
А плохо слышащий Григорий Петрович Соломка, не понимая, что происходит: отчего люди смеются (смеялись же и Вован, и Витяй, и слепой дед Иван, и даже диабетик), виновато оглядывался, сидя на стуле впритык с кроватью. Наверно, он не понимал и того, что Антон Павлович, его приятный знакомый, прикипевший к нему вниманием и заботой, прощаясь, протягивая руку, покидал этот больничный угол навсегда. Григорий Петрович машинально ответил, пожав сильную пятерню своего нового друга, улыбнулся и благодарно мотнул головой. А Шобутной, окинув палату прощальным взором и подхватив с кровати в одночасье стремительно собранную сумку, безвозвратно покинул этот, казалось бы, не одинокий, но пронзительно-сиротский, человеческий приют.