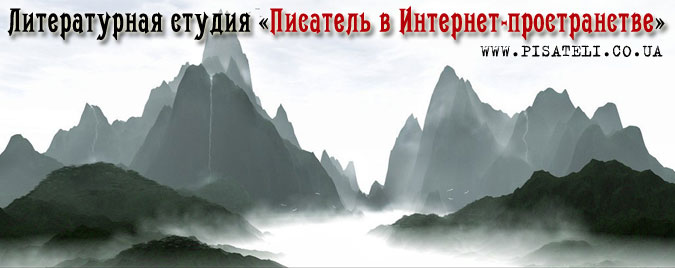Игра в снежки...
- Подробности
- Категория: Валерий Партугимов
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 2208
ИГРА В СНЕЖКИ
С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ
Сыплет снег и днем, и ночью.
Это, верно, строгий бог
Старых рукописей клочья
Выметает за порог…
Варлам ШАЛАМОВ.
Зимы последних двух лет в Тбилиси стали неожиданно снежными и морозными. А ведь до той поры, год за годом, свыше полувека, пожалуй, здесь зимой морозом признавалась невысокая плюсовая температура, а снег или вовсе лишал горожан своего пришествия, либо заглядывал в гости на пару дней в обнимку с оттепелью и распутицей.
Не зря говорят, что жизнь развивается по спирали, рано или поздно все возвращается на круги своя. Давным-давно, в первые годы после войны с немцами, в Тбилиси почти каждую зиму снег исправно выбеливал город и дарил нам, подросткам, сказочное наслаждение. Всегда был очень пушистым, искристым и красивым. В беспорядочном кружении падавших с неба невесомых белых звездочек была какая-то шаловливость, непредсказуемость. Дети это остро чувствовали и подыгрывали озорному беспорядку стихии своей кутерьмой и разбушевавшейся веселостью. Наверное, снега именно тех времен можно было воспринять как священную «манну небесную», лишайник леканора или сладкую корочку с куста тамариска, которыми Бог подкармливал души истосковавшихся по светлому празднику бытия тбилисских детей невеселых 40-х годов такого, казалось бы, недавнего ХХ века.
Нас сызмальства взращивали атеистами, но детские души сами искали божественного начала в окружавшем жестоком мире, и находили его в самых простых вещах: в беззаботных прогулках под сенью нелепого «грибного» дождичка и приводящего в восторг семицветья радуги, в задумчивом созерцании неизъяснимой красоты золотистого кокона шелкопряда, снятого во дворе с кряжистого тутового древа, наконец, в чутком прикосновении к ангельской чистоте укутавшего улицы, слегка трепещущего белого покрывала. Живым и возвышавшим душу воспринимался тот давний, ослепительно белый снег нами, детьми безотрадного поколения, у которых война отняла отцов, лишила многих радостей, заставила испытать унижение тоскливой нуждой. Вопреки бездумным заветам всесоюзного садовода-выскочки Ивана Мичурина «не ждать милостей от природы», мы только от нее и ждали хоть какой-то подачки на счастье.
Как сейчас помню 1 января 1949 года, день наступившего Нового года, который был нежданно отмечен обильным снегопадом. Тогда я учился в третьем классе известной во всем СССР Тбилисской третьей мужской средней школы (позже - 43-ья), давшей миру Булата Окуджава, Микаела Таривердиева, Марлена Хуциева, академика Виктора Амбарцумяна, великого американского кинорежиссера Рубена Мамуляна и множество других знаменитостей. Мы по вечерам едва ли не всем классом собирались на Вельяминовской поиграть в снежки, покататься на санках и коньках. Эта улица в то время носила имя Чавчавадзе, вот только не помню – Ильи или Александра, а ныне обозначена именем советского грузинского актера, писателя и драматурга Шалвы Дадиани, автора в свое время (1937 г.) очень популярной пьесы «Из искры», в которой рассказывается о любви Сталина и Ленина друг к другу. Но в моем детстве ее называли не иначе как Вельяминовской, похоже, по фамилии русского геодезиста, который в конце ХIХ века принял участие в планировке этого знаменитого тбилисского района Сололаки. При том, что она так не именовалась уже около сорока лет. Вельяминовская осталась по сей день самым красивым притоком в дельте сололакских улочек, соединивших старую, первородную часть города с новой, созданной по европейским лекалам.
Моему старшему брату дед подарил натуральные трофейные «норвежки» с косо обрубленными оконечностями сверкающих стальных лезвий – предмет моей зависти. У меня, как у большинства детей, были стандартные недорогие «снегурочки» с закругленным рифленым носом, а у самых неимущих моих одноклассников к стоптанным подошвам ботинок были привязаны веревкой деревянные коньки-баклажки с железными полозками снизу. Никому тогда и в голову не пришло бы с упреком сказать родителям: «Моему другу мама купила классные коньки, а у меня – простые деревяшки…».
Вечером первого новогоднего дня, наспех прожевав ромбик гозинаки, я отправился на Вельяминовскую. Напялив на голову ушанку и размявшись швырянием снежков, занялся мне не очень знакомым, по правде говоря, делом скольжения на коньках.
Сильно разбежавшись по схваченному морозом снежному насту, я по неопытности не сумел вовремя затормозить, «на всех парах» пролетел мимо самой известной в Тбилиси хинкальной, и вброшен был неведомой силой в торжественное пространство главной городской площади имени Лаврентия Берия (ныне - Площадь Свободы), куда и вливается Вельяминовская. В страхе потерял равновесие и грохнулся на спину.
Хоть и не поздним был вечер, но небо зачернилось поспешными зимними сумерками. Лежа на спине с разнесчастным видом и потирая ушибленный копчик, я уперся взглядом в черный овал неба, и был сражен сверху нацеленным на меня строгим недовольным взглядом товарища Сталина, голова которого была окаймлена ярко сияющим нимбом. Ощущение состояния поверженности стало абсолютным, я испытал какое-то безотчетное, крайне обостренное чувство вины за свое несовершенство. Меня, распластанного на снегу тщедушного подростка, пока даже не удостоенного чести быть принятым в пионеры, этот пронзительный суровый взгляд из поднебесья прожег насквозь, лишив сил и воли.
Я никак не мог сообразить, в чем дело, как это там, среди звезд, мог оказаться наш Отец и Учитель, к тому же – о, ужас! – ополовиненный по длине туловища. В памяти всплыла устрашившая мое детское воображение сценка из представления в тбилисском цирке знаменитого иллюзиониста Кио, когда маг безжалостно пронзал саблями сундук с упрятанной в нем красавицей, а затем в открывшемся люке появлялся «окровавленный» полу-торс с венчавшей его прелестной кудрявой головкой с горящими смешливыми глазами.
Однако с верхних ярусов обозреваемого мной пространства глядело вниз инфернальное существо несравненно большего объема и безмерной мрачности. В попытке уйти от разящего демонического взгляда Иосифа Виссарионовича, я отвел взгляд в сторону, но уперся глазами в еще одну обрубленную фигуру вождя, полыхавшую алым пламенем на Комсомольской аллее – прямо над моей школой, на пересечении маршрутов всех прогульщиков-«шаталистов» школ нашего района. Этот огнедышащий дракон, однако, десятикратно превышал размеры своего клона, который по-хозяйски восседал на облаках. Но эффект устрашавшего воздействия на меня воспламененного бюста Сталина был сравнительно невелик по причине быстрого осознания мной его, на первый взгляд чудотворного, происхождения. Таинство фееерического возгорания усеченного образа знаменитого тифлисского семинариста на склонах Сололакского хребта поддалось расшифровке, стоило мне только с прищуром разглядеть, что это – всего лишь укрепленная на скальном плато гигантская металлическая конструкция с уложенной на ней вязью из многометровых оранжевых, только входящих в моду люминесцентных трубок, которые проторили светившийся абрис генералиссимуса и контуры множества орденов на его выпяченной груди.
Но вознесенный над Комсомольской аллеей и даже горой Давида - высшими точками города, мерно освещенный в небесных кущах образ не имел подобного простого объяснения факту своего нахождения в таком странном месте, и очевидно призывал к подчинению моего неокрепшего духа абсолютной вере в неземное происхождение нашего грозного наставника. Подкативший ко мне на сверкающих «норвежках» брат остудил мое воображение и на пальцах объяснил, что так поразивший меня хмурый лик в небесах – всего лишь огромный портрет вождя по пояс, который сиял, как квадратная луна, отраженным светом. На замалеванный холст в металлической раме, словно на подловленный зенитчиками немецкий бомбардировщик, были направлены с земли где-то с десяток мощных холодных лучей военных прожекторов, в перекрестье которых возникал световой купол. Накрытое этим куполом огромное изображение товарища Сталина на белом полотне было подвешено длинными стальными тросами к черному, надутому водородом аэростату заграждения, который невидимой огромной сарделькой парил над площадью.
Этот таинственный и идеологически не совсем уместный обряд вознесения образа Отца народов в места, находившиеся в шаговой доступности от покоев Всевышнего, был совершен по решению Политбюро ЦК ВКП (б) во всех столицах республик Советского Союза. Был отмерен срок временного пребывания иконы вождя в горних высотах – с 1 по 10 января 1949 года, а далее – по одной декаде, начиная отсчет с 1 Мая и 7 ноября. Таким образом, свыше был благословлен советский народ на отмеренное радостное проведение двух главных коммунистических и одного языческого праздников в виртуальном приближении к величайшему из великих. Тем самым и светлый образ Господа Бога, с болью взирающего на наш грешный мир с недосягаемых высот, ловко, по-шулерски подменялся подсвеченным «лампочками Ильича» иконостасом с ремесленным изображением новоэпохального небожителя с садистским взглядом вертухая.
В ту ночь мне приснилось как я вместе с товарищем Сталиным играл в снежки на той же площади. Бросая ком снега, я старался не попасть в него ненароком, и он, как мне показалось, метил мимо меня. Потом он покатал меня на саночках, протащив их за ремень по улице С.Кирова (ныне улица Г.Леонидзе) до коммерческого гастронома «Особторг», где за огромной, блестящей и звенящей американской кассовой машиной сидела знакомая моей мамы тетя Роня, дорогие продукты продавались без карточек, а за витриной всегда громоздились высокие соблазнительные пирамиды из стеклянных баночек с черной икрой. Мне очень захотелось, чтобы он мне подарил одну такую 100-граммовую осетровую зернистую сказку, но я стиснул зубы и сумел смолчать. Дорога тянулась вверх, недаром раньше эта улица называлась Сололакским подъемом. Мой очень важный попутчик немного запыхался и остановился передохнуть. Я с почтением стал чуть поодаль и держал ремешок саней с такой торжественностью, словно это были лайковые поводья Кумира - легендарного коня терской породы из кремлевской конюшни, на котором победитель немецких фашистов товарищ Сталин должен был принять парад Победы в 1945 году. На обратном пути к площади я умолил Иосифа Виссарионовича сесть в санки, убедив в том, что мне по силам прокатить его под уклон. Он проявил неожиданную уступчивость и мне не отказал. Жесткие полы его суровой солдатской шинели пропахивали мягкий снег, забрасывая им бороздки от санных полозьев. После нашего проезда до площади дорожка в кильватере санок осталась без всяких внешних примет. Во сне вспыхнула метафора: «Режет по живому и не оставляет следов». И вслед за вспышкой – его странная ухмылка сквозь заиндевевшие густые усы.
По периметру площади почему-то стояли понурые фигуры людей в ватниках и с котомками в руках. Я было разошелся и кинул в товарища Сталина маленький рыхлый снежок, но это ему уже не понравилось, и лицо его приняло каменно-угрюмое выражение. Он исподлобья оглядел убогое сборище окружавших нас пришибленных горожан, как мы говорим – «мокалаке», с трудом протянул в их сторону усохшую, не сгибавшуюся левую руку и погрозил им скрюченным указательным пальцем. Со свистом пронесся порыв внезапно налетевшего студеного ветра, который вобрал в себя дыхание свирепого мороза и испарения типично тбилисской зимней сырости. В бездну мертвой тишины, казалось, погрузился весь город. Такие ощущения возникают у человека только при посещении морга или во сне. Предчувствие чего-то непреодолимо ужасного охватило меня с ног до головы. Я сник и растерялся, но товарищ Сталин вдруг крепко приобнял меня за плечи, и я в миг размяк, горло перехватило от сладкого волнения. Возможно, в том сновидении он мне на какие-то минуты помог восстановить в душе заново обретенное чувство присутствия рядом, осязаемости так не достававшей мне личности отца, который погиб на войне, в страшном бою 42-го за город, носивший имя Сталина.
А спустя несколько месяцев после наших игр в снежки, 14 июня 1949 года, мама разбудила меня в шесть часов утра и мы, всклокоченные, помчались из нашего нового дома в районе Ваке к дому №9 в сололакском Аллавердовском тупике (ныне – тупик имени нашего бывшего соседа, известного ученого Бориса Куфтина), где жили родители и сестра моей мамы, и в котором я провел свое детство. Поднявшись на балкон с изящно вросшим в него тутовым деревом, мы уперлись в наглухо заколоченную входную дверь, ручка которой была привязана толстой бечевкой к вбитому в наличник железному крюку. Веревочка была впаяна в полотно двери толстым наплывом сургуча с оттиснутым на нем барельефом пломбирного штампа Министерства госбезопасности. Бабушку, деда и тетю в ночь с 13 на 14 июня забрали на высылку в сибирские степи по дикому обвинению в том, что они когда-то жили в другой стране. По такому же огульному бессудному обвинению в ту злосчастную ночь были изгнаны из своих домов, погружены на станции Навтлуги в вагоны для перевозки скота эшелона № 96.116 и депортированы в Сибирь и северную часть Казахстана тысячи «лишних граждан» Тбилиси, большинство из которых уже никогда более не вернулись к родному очагу. Черные смоляные волосы моей тети за одну ночь стали белыми-пребелыми. Как снежок…
Спустя многие годы в дневнике спецпереселенки, студентки Тбилисского мединститута, выселенной в 1949-м в Сибирь, я прочитал поразивший меня фрагмент текста, связанный со смертью Сталина: «Играли замечательный похоронный марш…Мама дала клятву, что когда он умрет, она намажет губы помадой, она же никогда не красилась, и вот тогда не было помады, но она накрасила губы карандашом и пошла с одного края деревни на другой, надела белое платье, накрасила губы и ходила…»
И в другом месте дневника, когда эти «выселенцы без паспорта, без дома, заброшенные в тайгу оторванцы» с любовью и тоской вспоминали образы родного города: депортируемые, прогуливаясь по перрону, ласково называли его проспектом Руставели, позже «проспектом Руставели» называли уже двор томской тюрьмы, а свалку вещей в тесной холодной избе сибирского села Высокий Яр – «Сабурталинской барахолкой» по аналогии с процветавшим до 1956 года «блошиным рынком» в районе Сабуртало, на месте нынешнего Дворца спорта. Все эти несчастные люди не представляли себе жизни вне Тбилиси…
Незадолго до тех окаянных дней 13-14 июня 1949 года мне исполнилось десять лет, но в памяти каждая деталь того скрежещущего отрезка моей жизни бережно сохранена и жестко прорисована. Помню соседа-воришку, в пьяном угаре бесстыдно ревущего в притихшем от страха дворе: «Мы кавказской не посрамим чести и до самой смерти будем вместе…». В те дни не подверглись арестам и высылке ни один вор, никто из бандитской сволочи.
Память накрепко привязала к моей натуре и безрассудное упорство мамы, день за днем без устали отбивавшей у системы своих родных, ворвавшейся в кабинет секретаря ЦК и положившей на его стол свой партбилет с требованием освободить отца, мать и сестру или отправить ее к ним в Сибирь. С тех пор в мою голову вбито – не выбить: сначала родня, потом все остальное на свете.
Я жил в те дни в каком-то полусне: школа, товарищи, игры, шалости – все казалось потусторонним, не имевшим ко мне никакого отношения. Было чувство отчужденности и исключенности. Это состояние еще долгие годы паршивым псом влачилось за мной повсюду.
Через какое-то время нам позволили вскрыть дверь и войти в дом моих стариков. Все было на своих местах, за исключением взятой наспех в дорогу одежды и кое-какой домашней утвари. На черной полированной верхней части трофейного рояля «Bluthner», привычный блеск которой сник под серебристо-серым покровом пыли, лежал сверток с чернильной надписью, начертанной почерком деда: «Моему 10-тилетнему любимому внуку. Не бойся льда и холода». Только спустя годы я понял, какой стужи просил меня дед не страшиться. В свертке были аккуратно уложены промасленные, совершенно новые «норвежки», точь-в-точь такие, как у брата. Я держал в руках эту вчерашнюю мою мечту и плакал. С того дня коньки и катание на льду для меня не существуют.
Товарищ Сталин в моих снах более не появлялся. То ли он на меня за что-то обиделся, то ли я на него…
В следующую после роковых событий зиму снег снова сыпал и сыпал тяжелыми мокрыми хлопьями на осиротевшие для меня тбилисские улочки. Кура в 1949-1950 годах покрывалась толстым слоем льда. Казалось, все вокруг замерзло и замерло, над каждым тбилисцем смертоносными щупальцами спрута нависли свинцовые гроздья острых ледяных сосулек. Наш веселый и беззаботный город дышал опасностью и страхом.
Одни лишь дети жили вне боязни угроз и риска, своей непокорной разгильдяйской жизнью. По вечерам я иногда выходил на Вельяминовскую и смотрел, как мои сверстники с лихой безмятежностью гоняли на санках и коньках, нещадно лупили друг друга снежками, и ликовали в подростковой убежденности в бесконечности жизни, в беспредельности счастья.
Тогда мне казалось, что я удрученный горестями и скепсисом 70-тилетний старец. А сегодня воображаю себя дерзким и обаятельным десятилетним тбилисским мальчишкой: вот сейчас дочитаю главу из «Двух капитанов» и помчусь к дружкам на Вельяминовскую, разбегусь, нырну в сугроб, схвачу горсть снега и буду жевать, пока скулы не своротит - до синих губ.