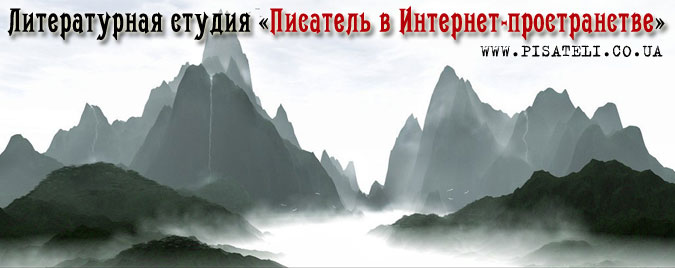Моя Абхазия
- Подробности
- Категория: Вадим Анастасиади
- Дата публикации
- Автор: Kefeli
- Просмотров: 3907
"Моя Абхазия"...Озаглавив свои заметки, посвященные Абхазии, подобным образом, автор сразу же хочет предупредить, что и в мыслях не имел посягнуть на чужую собственность, а лишь написал о стране, которую, узнав однажды, запомнил и навсегда полюбил.
Моя первая встреча с Сухуми состоялась в бытность студентом третьего курса факультета журналистики Тбилисского госуниверситета. Это был первый выпуск русского отделения журфака, насчитывавший 15 человек. Учебный год подходил к концу, и все мы с нетерпением ожидали лета и обещанной деканатом практики в Батуми, Сухуми и Кутаиси. Не знаю, почему, но мысленно местом своей будущей практики я выбрал Сухуми. Наверное, привлекало море, привлекало прочитанное об этом городе, привлекала приближенность к тем местам - Хоста, Кудепста, Сочи, где я провел предыдущие летние каникулы. Но практику отменили. В деканате cказали, что денег на поездку нет и что вместо Сухуми, Батуми и Кутаиси нас направят в редакции тбилисских газет. Конечно, это было разочарование: практику в тбилисских газетах мы уже проходили. Мои попытки как-то утрясти вопрос ни к чему не привели. В деканате заявили, что если мне так уж хочется в Сухуми, я, конечно, могу ехать, но лишь за свой счет.
"Что ж, за свой счет - так за свой", - после некоторых раздумий решил я. А почему бы и нет: от Тбилиси до Сухуми билет в плацкартном вагоне стоил 7 рублей - это я осилю, а денег на еду на первое время хватит. Естественно, потом придется добывать на пропитание самому, но меня это не пугало. На практику в незнакомый город я, собственно говоря, собирался именно за этим: проверить себя, посмотреть, на что горазд. Единственное, что останавливало, - не хотелось отправляться в дорогу одному. И тогда я решился на небольшой обман. Пошел к своему однокурснику Юрию Гавва и, чтобы уговорить его на поездку в Сухуми, сказал: "Да, в деканате денег сейчас нет, но, возможно, они появятся осенью, и если мы поедем на практику, то позже проезд и небольшие суточные расходы нам, быть может, оплатят". Долго агитировать Юру не пришлось, и уже на другой день мы выехали в Сухуми - с небольшими саквояжами и официальным направлением на практику, адресованным из деканата тогдашнему главному редактору газеты "Советская Абхазия".
Забегая вперед, скажу, что Юра, а теперь уже Юрий Владимирович Гавва, наверное, на всю жизнь останется благодарен мне за то, что тогда, в 63-м, я спровоцировал его на эту поездку. Когда после окончания университета он, уже имея жену и детей, предпринял несколько безуспешных попыток устроиться на работу в различных городах тогдашней страны, именно "Советская Абхазия ", где его хорошо знали, стала той редакцией, которая гостеприимно распахнула перед ним свои двери. В эту газету Юра пришел корреспондентом, стал заведующим отделом, потом был вторым секретарем Гагрского горкома партии и заведующим административным отделом Абхазского обкома КП Грузии, а завершил свой путь в журналистике на посту главного редактора той самой "Советской Абхазии".
Итак, в путь, на практику, в Сухуми! Перед отъездом мы с Юрой, казалось бы, предусмотрели все, кроме одной "незначительной" детали: где будем жить? Правда, был один адресок - на улице Орджоникидзе, где по нашей информации, жила некая старушка, которая иногда пускала к себе постояльцев. Так мы оказались у бабушки Маницы, без которой, сейчас я могу это точно сказать, наша практика в Сухуми вряд ли состоялась бы. Маленькая, согбенная старушка встала при нашем появлении, и ее морщинистое лицо вдруг озарилось неожиданно доброй улыбкой. Не знаю, чем мы приглянулись Манице, но она, без видимого сожаления, уступила нам свою большую комнату, а сама перебралась на ночлег в… чулан. Жила, она в нужде, это было заметно, но, поселяя нас у себя, даже не заикнулась о каком-либо задатке, а в ответ на наши попытки завести разговор на эту тему только улыбалась.
Мы позвонили в Тбилиси приятелю - Лесику Аршба, передавшему нам "адресок": "Так и так, говорим, в чем дело? Старуха денег не берет..." - "Да, ладно, успокойтесь, - ответил тот. - Вы живете у моей дальней родственницы. Это совсем одинокая женщина, и она рада уже тому, что ей есть, с кем перемолвиться словом".
Так и жили бы мы, наверное, у бабушки Маницы, ничего о ней не зная и не ведая, если бы не сухумский писатель и журналист Роман Петрозашвили, услышавший от нас однажды рассказ о нашей хозяйке и дополнивший его новыми подробностями.
Отца, мать и мужа бабушки Маницы в 30-е годы репрессировали. Больше она их никогда не видела. Та же участь постигла бы и Маницу, если бы в день ареста членов ее семьи она не оказалась случайно в Тбилиси. Узнав о случившемся, женщина срочно выехала в Сухуми, хотя несколько дней тяжело хворала и лежала в кровати с высокой температурой. Ночью в поезде с ней случился приступ, температура поднялась до 40 градусов, в горячечном бреду она выскочила в тамбур и спрыгнула с поезда. Живой осталась чудом. Утром ее подобрал путевой обходчик-грузин, и вся его семья в течение 10-12 дней буквально не отходила от пострадавшей, отпаивая травами, медом и другими снодобьями. Потом ее нашли родственники, у которых она, постоянно меняя адреса местожительства, долгое время скрывалась. Единственный сын Маницы, которого после ее бегства взял на воспитание дальний родственник мужа, погиб в Великую Отечественную войну. Несколько лет назад скончался брат Маницы, потом и сестра. Теперь она совсем одинока, живет на небольшую пенсию.
... Квартплату мы принесли бабушке Манице с первого же гонорара. В ответ она лишь приподняла клеенку большого стола в нашей комнате и сказала: "Кладите деньги сюда. Если понадобятся -возьмете".
Газета "Советская Абхазия" в то время считалась в Грузии одной из лучших региональных газет. Возглавлял ее Георгий Семенов, многоопытный журналист. Удивившись нашему прибытию, т.к. предварительно о практике студентов в Сухуми его, естественно, никто не уведомлял, он, не мудрствуя лукаво, распределил нас с Юрой по отделам: меня - в промышленный, Юру - в пропаганду, а кроме того, выделил отдельную комнатку, в которой была (о, счастье!) даже печатная машинка, с помощью которой мы могли с утра и до позднего вечера предаваться творческой деятельности.
Несколько лет спустя, прочитав повесть Фазиля Искандера "Созвездие Козлотура", я обнаружил, что многие ее эпизоды родились в стенах редакции "Советская Абхазия", куда Искандер, как явствует из его биографии, приехал на работу после окончания МГУ. И история с Козлотуром - вовсе не высосанный из пальца эпизод, как может кому-то показаться. Я вспомнил, как, листая однажды подшивку старых номеров "Советской Абхазии", обнаружил на одной из ее страниц фотографию самого настоящего Козлотура - тогда мне и в голову не приходило, из какой она оперы - эта песня.
Конечно, газета "Советская Абхазия" тех лет и описанные Искандером "Красные субтропики" - это две совершенно разные редакции, и все-таки, все-таки... Ну как не вспомнить, например, человека с чеканным римским профилем, светлая ему намять, ставшего прообразом веселого пустозвона из "Созвездия Козлотура", командированного из центра в колхоз для пропаганды передового опыта по разведению "передового животного". В период моей абхазской практики этот человек носился с идеей превращения Сухуми в международный центр туристической индустрии, казавшейся мне тогда почему-то бредовой. "Представьте себя в кабине лифта, - в очередной раз превозносил он передо мной достоинства одной из своих фантазий. - Дверцы лифта закрываются, лифт опускается вниз, и... вы оказываетесь на дне Черного моря. Какая захватывающая картина!" Тогда эти слова казались мне забавным прожектерством. Теперь, с высоты сегодняшнего прагматичного времени, я бы, наверное, воспринял их гораздо серьезнее.
Впрочем, определенное фрондерство и хвастовство, склонность ко всякого рода преувеличениям отличали многих моих сухумских знакомцев, что не мешало мне, однако, искренне их любить, как я любил, к примеру, Джемала Антия, проработавшего на различных комсомольских должностях большую часть отпущенной ему жизни. Мы встречались либо в Абхазии, если туда меня забрасывали журналистские пути-дороги, либо в Тбилиси, когда в столицу на какое-нибудь совещание приезжал он. Обычно разговор, начатый в служебном кабинете или редакционной комнате молодежной газеты, где я работал, получал продолжение в закусочной или ресторане - выбор места, естественно, зависел от наших финансовых возможностей. Разговоры нередко затягивались допоздна. В комсомольской среде Джемал слыл «белой вороной». То, за что в другой аудитории удостоили бы похвалы, в этой вызывало насмешки. По многим вопросам его мнение расходилось с мнением «руководящих товарищей». Сколько раз бывало: выступает на совещании кто-нибудь из комсомольских «вождей» и говорит одно, вслед выступает Джемал и говорит нечто совершенно противоположное. Причем сплошь и рядом опирается на собственный опыт, тут же с трибуны спешит о нем рассказать, сыплет примерами. Там, по-моему, и услышал я от него историю о Юрке «Чугунном зубе» - Юрии Якубовском, молодом сухумском парне, бывшем уголовнике. Совсем еще мальчишкой Якубовский попал в дурную компанию, оказался в воровской шайке, был осужден. Вернулся из мест заключения и… оказался в «сетях» Джемала Антия, который решил избрать молодого парня объектом своего шефства. Дошло до того, что он поселил бывшего вора в своей квартире. Они чуть ли не побратались: вместе ели, пили, гуляли, ходили в кино… Тема, согласитесь, интересная и, вернувшись в редакцию, я внес в свой план работы на очередной месяц поездку в Абхазию.
…В Сухуми я попал уже под вечер. В горкоме комсомола, где в то время работал первым секретарем Джемал, естественно, никого уже не было, но Антия был заметной фигурой в городе, и найти его в летний вечер на приморской набережной не составляло труда. Как ни странно, Джемал ничего не знал о нынешнем местонахождении Юрки, хотя согласно той "картины маслом", которую он рисовал перед комсомольским активом, «Чугунный зуб» без его ведома не ступал и шагу. Принялись искать. Взяли машину и объездили чуть ли не весь Сухуми, даже такие его закоулки, где я ни до, ни после этого никогда не бывал. Джемал входил в темные подворотни, похожие на притоны, откуда появлялся через некоторое время в сопровождении каких-то подозрительных субъектов. Но Юрки не было нигде. Наконец, уже глубокой ночью мы нашли «Чугунного зуба» у какой-то его пассии, причем нельзя было сказать, что он очень обрадовался нашему визиту. Во время разговора герой моего будущего материала в основном молчал и лишь редкими кивками головы сопровождал живописный рассказ Джемала о своем нравственном исцелении. История эта закончилась появлением на страницах молодежной газеты материала под названием «Конец «Чугунному зубу». Одна фраза из него в моей памяти запечатлелась особо. «Он пребывал в том прекрасном возрасте, когда люди презирают лифт и взбегают на пятый этаж одним махом», - написал я о Юрке, имея в виду, разумеется, самого себя, ежедневно взбегавшего на пятый этаж нашего тогдашнего редакционного здания. Многим запомнился и заголовок материала. Например, если после работы мы оказывались в каком-нибудь питейном заведении и количество бутылок на столе начинало зашкаливать, мой заведующий отделом Владимир Валерьянович Осинский громко восклицал: «Конец «Чугунному зубу!». И мы, хоть и не очень охотно, но достаточно быстро закруглялись.
Что касается Джемала Антия, то жизнь его завершилась трагически. Находясь спустя несколько лет на учебе в высшей партийной школе в Баку, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна верхнего этажа общежития. Вечная ему память!
Мой первый материал в "Советской Абхазии" - о строителе Хазарате Гулариа заслужил похвалу на редакционной летучке и был вывешен на доску лучших материалов. Хазарат был видным, представительным парнем. Его бригада возводила дом в центре Сухуми. Перед тем, как представиться, я некоторое время наблюдал за ним со стороны: работал Хазарат уверенно, красиво, кирпичи ложились у него ровными радами. У меня до сих пор хранится наша с Хазаратом фотография, сделанная редакционным фотокорреспондентом Григорием Михайловичем Толмачевым: я - делающий в блокноте какие-то записи, и Хазарат, что-то демонстрирующий мне широким взмахом руки.
Толмачев был прекрасным фоторепортером, хорошо видел кадр, имел опыт: ведь с камерой в руках прошел всю Великую Отечественную войну. Но что-то не заладилось, видимо, у него в послевоенной жизни. Он стал пить, и чем дальше - тем больше, о чем в редакции говорили с сожалением, искренне сочувствуя этому во всех отношениях порядочному человеку. Быстро проникся к нему симпатией и я, чему не только не помешали, но, наоборот, способствовали наши с ним две или три совместные командировки.
Помню, как год спустя, уже в Москве, во время другой практики - в "Известиях", местные коллеги после моего рассказа о командировках из Сухуми в Гудауга или в Гагра потешались: "Ну, подумаешь, Гагра, что это за командировка - рукой подать". "А какая разница, - отшучивался я. - Из Сухуми до Гагра - 2 часа на электричке. Это даже дольше, чем перелет самолетом из Москвы до Казани".
... Итак, стоял жаркий июльский день. Мы с Толмачевым приехали на привокзальную площадь Сухуми, откуда, согласно расписанию, через 10 минут должен был отходить автобус в сторону гудаутского села Ачадара, где нам было поручено сделать очерк о передовом табаководе. Но прошло 10 минут, потом 20, а автобус все не появлялся. "А не выпить ли нам бутылочку красненького?", - осторожно осведомился Григорий Михайлович. В его голосе чувствовалась некоторая неуверенность - он не знал, как я отреагирую на это предложение. Несмотря на разницу в возрасте, из нас двоих именно я был пишущим журналистом, а следовательно, ведущим в нашей с ним корреспондентской связке. Я отреагировал правильно. В Ачадара мы приехали под вечер, да еще с головной болью: хмель выветрился, но какая-то составная часть "красненького" - "Альб де Масе" (производитель -Молдавия) никак не хотела умиротворяться и продолжала буйствовать в голове. Видимо, Толмачеву тоже нездоровилось: сделав прямо в поле несколько фотографий, он задремал тут же на травке, пока мы с моим героем Шулей Джениа разбирались в тонкостях табачного производства. Шуля оказался парнем что надо. Отслужил в армии, выучился на агронома в вузе. Сейчас бригадирствовал в колхозе.
Стал накрапывать дождь, и мы перебрались под навес, где Джениа и его табаководы высушивали табачные листья. Когда наш разговор стал выдыхаться, Шуля вдруг сделал то, что за время моих многократных посещений колхозов и совхозов мало кто делал: стал водить меня по домам каждого члена своей бригады и знакомить меня с домочадцами. Несмотря на головную боль, я все это стойко терпел. После того, как мы навестили последнего члена бригады, Шуля пригласил нас с Толмачевым к себе домой, где его сестра Нана уже хлопотала у накрытого стола. Стол стоял на веранде, стены которой были в изобилии увешаны рогами то ли туров, то ли козлотуров, - тогда об этой разновидности животного мира мне еще ничего известно не было. Перед тем, как отправиться на покой, Толмачев сделал на веранде Шули Джениа несколько фотографий.
На одной из них фотоаппарат запечатлел черноокую Нану, разливающую из небольшого графина в наши рюмочки домашнюю водку. Я вглядываюсь в ту фотографию и читаю в своих глазах вопрос, адресованный Нане: "А почему, красавица, ты не присядешь за стол вместе с нами?" "Нельзя, - также взглядом отвечает мне она. - По нашим обычаям нельзя, чтобы женщина сидела за одним столом с мужчинами".
Что ж, недаром говорят: чужая душа - потемки. Да и чужие традиции и нравы - тоже темный лес. И о многих абхазских обычаях мне, как, наверно, и большей части моих сограждан было известно в таком утрированном и препарированном воде, который не имел ничего общего с действительностью. Да разве только об обычаях идет речь?!
Я с сожалением покидаю гостеприимный дом Шули Джениа и перебрасываю в своем повествовании мост в 80-е годы, в Тбилиси, во Дворец пионеров и школьников, на пленум ЦК комсомола Грузии, где меня, работавшего в то время главным редактором газеты "Молодежь Грузии", вместе с тогдашним первым секретарем Абхазского обкома комсомола Сергеем Багапш избирали членами бюро Центрального комитета. На следующий день в "Молодежке" появилось информационное сообщение о пленуме, естественно, собственноручно мною написанное, в котором фамилия Сергея воспроизводилась в родительном падеже (избрали кого? - Багапша - В.А.), т.е. в соответствии со всеми известными мне правилами грамматики русского языка. А еще через несколько дней в моем кабинете раздался телефонный звонок из Сухуми. На проводе был Багапш. Поговорив о каких-то текущих делах, он вдруг сказал: "Между прочим, Вадим, прими в качестве информации: фамилия Багапш в абхазском правописании не склоняется, ее во всех падежах следует писать Багапш". "Не может быть", - хотел было возразить я, но вовремя спохватился, т.к. понял, что, конечно же, Багапш (я чуть было не написал Багапшу) виднее, чем мне, что в абхазском правописании, с точки зрения грамматики, правильно, а что - нет.
Так к моим повседневным редакторским заботам прибавилась еще одна, навеянная звонком из Сухуми, - следить за тем, чтобы написание абхазских фамилий у меня в газете выполнялось по абхазским, а не по каким-то иным правилам. Кстати, эту обязанность я выполняю по сей день, хотя, честно говоря, не совсем понимаю этой особенности правописания.
Ныне, увы, покойного руководителя Абхазии Сергея Багапш, видимо, нет нужды представлять читателю, в отличие от тогдашнего Багапш, который был выдвиженцем руководителя комсомола Грузии Жиули Шартава, - точно так же, как до него таким выдвиженцем был Пачик Барциц, а после него - Саид Таркил, Нугзар Ашуба, Эдик Шам6а...
Пачик (Пач) Харитонович Барциц был приглашен в Тбилиси на должность второго секретаря ЦК комсомола Грузии - прежде абхаз такого поста в комсомольской организации республики никогда не занимал. Он курировал рабочую и сельскую молодежь, занимался экономическими вопросами. Ему же больше подошло бы работать с творческой интеллигенцией, вести диспуты с литераторами и деятелями искусства. Пачик был необыкновенно мягким, добрым человеком. Но дело в том, что он в свое время закончил сельхозинститут, и диплом агрария наложил отпечаток на всю его последующую служебную карьеру. В Тбилиси он, помимо многих других положительных качеств, мне запомнился тем, что составлял комсомольские документы, писал свои доклады и другие выступления на обратной стороне уже побывавшей в употреблении бумаги, как бы демонстрируя этим комсомольскую бережливость и рачительность. Из Тбилиси Пачик Харитонович был переведен в Сухуми - секретарем обкома партии по сельскому хозяйству, потом стал министром сельского хозяйства, руководил департаментом леса... Словом, поработать с интеллигенцией ему так и не довелось.
Впоследствии Жиули Шартава стал делать ставку на других: более зубастых и клыкастых, чем интеллигентный Пачик, более приспособленных к работе в новых, все более усложнявшихся условиях. Наступал 1979 год. На Абхазию накатывалась очередная волна выступлений с требованиями о выходе автономной республики из состава Грузии, достигавшая своего пика, по странному стечению обстоятельств, каждые 10 лет. В то время я, как уже было сказано, занимал пост редактора "Молодежки". Помню, с каким волнением следили в Тбилиси за событиями в Сухуми, в селах Гудаутского района, на гагрском стадионе... Телевизор у меня в кабинете буквально раскалялся от выплескивавшихся из него эмоций и страстей. Но вот, к счастью, ситуация несколько разрядилась - увы, лишь на какое-то время, чтобы к концу 80-х вновь взорваться неисчислимыми бедами.
Жиули Шартава возвратился в Тбилиси после абхазских событий со словами: "Надо что-то делать!". Сейчас я не готов к ответу на вопрос: "А возможно ли было вообще что-либо сделать для предотвращения разразившегося 13 лет спустя кровавого конфликта?". Скажу лишь одно: попытки избежать рокового противостояния предпринимались. И Жиули Шартава, словно предвидя свой трагический конец, делал все, чтобы предотвратить надвигающуюся грозу.
С чего начать рассказ? Начну, пожалуй, с рождения праздника дружбы грузинской и абхазской молодежи в селе Рухи Зугдидского района. Именно здесь несколько столетий назад грузины и абхазы совместно пролитой кровью, как писали тогдашние газеты, скрепили свое боевое братство в сражении против турецких захватчиков. И именно в этом месте, согласно замыслу Жиули Шартава, было решено ежегодно проводить дружеские встречи грузинской и абхазской молодежи.
Помню, как мы в редакции готовились к этому празднику: переводили на русский язык историческую повесть какого-то автора, воскрешавшую в памяти сражение близ Рухи, подбирали к ней иллюстрации... Чуть ли не ежедневно звонил Жиули, интересовался: как дела? Что-то подсказывал, советовал - словом, тормошил... Давал понять, сколь большое значение он придавал предстоящему событию. Однажды сказал: "Возьмите интервью у режиссера Гоги Кавтарадзе - он утвержден постановщиком праздничного представления". Позже мы узнали, что на праздник едут и другие звезды театрального искусства и кинематографа Грузии, видные поэты, писатели...
В 1986 году праздник в Рухи, в ходе начавшейся в республике после отъезда руководителя Грузии Эдуарда Шеварднадзе на работу в МИД СССР в Москву "борьбы с пережитками формализма", неожиданнно отменили. По этой же причине были преданы забвению традиционные встречи историков в Боржоми. Что ж, это у нас обычная история - отрекаться от того, что имеешь, ничего не предлагая взамен. Ну, кому, скажите, могли помешать ежегодные встречи молодежи или встречи историков? Ведь совершенно очевидно, что когда люди общаются, когда они смотрят в глаза друг другу и когда у них есть возможность провозгласить за партнера тост с заздравной чашей в руках, если даже предположить, что они ничем другим на этих праздниках и встречах не занимаются, вряд у них в ближайшее время появится желание ввязаться друг с другом в ссору. Или в драку...
Сейчас, когда я пытаюсь разобраться в мотивах, побудивших тогдашнего главу уже независимой Грузии Эдуарда Шеварднадзе направить в 1993 году Жиули в качестве предсовмина Абхазии в самое пекло абхазской войны, то все как бы лежит на поверхности. Проследить это логическое построение особой сложности не представляет: ряд влиятельных чинов в тогдашней Абхазии, определявших ее политику, выросли под крылом Шартава, были выпестованы им и, надо полагать, считали себя обязанными ему своей карьерой. Следовательно, если продолжить это логическое построение, у Шартава имелся шанс, используя личные связи, как-то повлиять на ситуацию в Абхазии, смягчить ее, ну и, если удастся, попытаться расхлебать кашу, столь неумело заваренную доморощенными политическими "виртуозами".
Думаю, все-таки, что эти надежды были построены на песке. Личные взаимоотношения, конечно же, имеют большое значение, но они перестают или почти перестают играть свою роль, если на чашу весов брошены ценности более значимые, нежели эти отношения. И мой упрек в адрес абхазских выдвиженцев Шартава состоит вовсе не в том, что они ничего не предприняли со своей стороны для реализации шеварднадзевского замысла, а в том, что спокойно дали убить Жиули Шартава...
И вновь праздник в Рухи. И вновь музыка. И вновь встречи, знакомства, рукопожатия. Замечаю в толпе знакомое лицо. В руках у человека палка, на которую он тяжело опирается. Постой, постой... "Вы Шуля Джениа?" - "Да, - улыбается он. - Вот привез на праздник своих табаководов - это уже новое поколение". - "Пойдем, - приглашаю его к накрытому столу, - отметим нашу встречу". "Нет, что-то нездоровится, - отнекивается он. - Видишь, с палкой хожу". И вдруг, словно вспомнив о чем-то важном, спрашивает: "Покажи мне этого мужика - Шартава, который он?".
Между прочим, слово "мужик" применительно к Шартава я впервые услышал от Сергея Багапш. "Да, он - жесткий, он - строгий, он - суровый, но он - мужик", - сказал тогдашний заведующий отделом рабочей и сельской молодежи ЦК комсомола Грузии о первом секретаре ЦК. Меня не удивили уважительные интонации, прозвучавшие в этой фразе, т.к., по моим наблюдениям, сам Сергей тоже относился к этой категории людей: был с товарищами ровен, приветлив, но чувствовалось - самолюбив, при случае может жестко постоять и за себя, и за своих сослуживцев. Значит - мужик.
Не помню уже по какому вопросу, но однажды на совещании в ЦК Жиули устроил разнос сотруднику отдела рабочей и сельской молодежи, который, как я уже сказал, возглавлял Багапш. Такое на совещаниях, проводимых Жиули, случалось не раз. Его требовательность была хорошо известна. Если ошибку он еще мог простить, то леность, неисполнительность -никогда. Его критика бывала беспощадной, подчас излишне резкой, но в целом - справедливой.
Лучшей тактикой в этой ситуации было отмолчаться, И отмалчивались. Я что-то не припомню случая, чтобы кто-нибудь из "жертв" этих разносов встал и сказал что-либо в свое оправдание. Это сумел сделать Багапш. Когда Шартава начал резко отчитывать его инструктора за какую-то провинность, Сергей встал и сказал примерно следующее: "Я являюсь заведующим отделом, а потому именно я несу ответственность за промах своего сотрудника. И прошу вашу критику адресовать мне". От неожиданности Жиули на мгновение утратил дар речи, потом засмеялся... Все вздохнули с облегчением - инцидент был исчерпан.
Я заметил, что Жиули всегда чем-то выделял, как-то по-особому относился к Сергею, а потом к Саиду Таркил, который появился в аппарате ЦК после избрания Сергея первым секретарем Абхазского обкома комсомола, к Нугзару Ашуба...
Когда Шартава возглавил орготдел в ЦК партии. Саид вскоре перебрался туда же - стал инспектором отдела, затем был избран председателем Гудаутского райисполкома. Разумеется, с перспективой на дальнейшее должностное повышение. Помню, я как-то обратился к Саиду с просьбой. О чем просили в ту пору тбилисцы своих абхазских приятелей? Наверное, в первую очередь, об организации летнего отдыха на море - в каком-нибудь санатории, доме отдыха или пансионате. Вот и я с моим другом и его семьей как-то воспользовались протекцией Саида. Стояла прекрасная солнечная погода. После долгой и утомительной дороги автомашиной из Тбилиси мы сидели в прибрежном ресторане в Гудаута, о чем-то беседовали, провозглашали тосты, договаривались о будущих встречах... И вот наступило лето 1993 года. Я встретил Саида в самый разгар абхазской войны. Это было в Сочи, в гостинице "Жемчужина", где он принимал участие в подписании грузино-абхазского мирного соглашения уже в ранге... министра иностранных дел гудаутского правительства. Я же приехал туда в качестве журналиста. На лице Саида, которое даже в юношеские годы было суровым и словно высеченным из камня, лежала печать какой-то ожесточенности. После некоторых колебаний я подошел к нему и спросил: "Не скажешь ли что-нибудь для нашей газеты?". Саид натянуто улыбнулся: "Не спрашивай меня, пожалуйста. Ко мне уже подходили журналисты, и я сказал, что говорить ни о чем не буду". Он вновь как-то натянуто улыбнулся и замолчал. Почувствовав, что молчание затягивается, отошел и я.
Что касается Нугзара Ашуба, многие годы проработавшего спикером местного законодательного органа, то, говорят, что этого своего выдвиженца Жиули не только опекал, но и в буквальном смысле спас чуть ли не от верной смерти. В Тбилиси Нугзар тяжело заболел, потребовалось срочное вмешательство. Жиули сделал все, чтобы предотвратить беду: привозил лучших врачей, обеспечивал больного лекарствами...
Я знаю, что Жиули ехал в Абхазию с намерением содействовать миру. Разумеется, в рамках переданных ему полномочий, которых, как выяснилось, оказалось недостаточно, чтобы распутать сложный абхазский узел. Или все уже зашло слишком далеко?!
Как мне кажется, он делал все возможное, чтобы своими действиями и поступками быть услышанным и понятым другой стороной. Даже в простом перечислении конфликтующих сторон в своих публичных выступлениях он старался соблюсти равенство, и если, скажем, в одном случае начинал перечисление с Грузии, то сразу же повторял ту же фразу, поставив на первое место уже Абхазию. Иногда это выглядело просто наивно.
Мой однокурсник и друг Юрий Гавва утром 27 сентября 1993 года шел к дому правительства в Сухуми, уже понимая, что город обречен. Грузинское население покидало свои дома. Юра был человеком гражданским, и ему, наверное, надо было последовать примеру других сухумцев, но дело в том, что зять Гаввы Вахтанг Парцвания состоял в охране предсовмина Жиули Шартава, и бросать родственника в столь критический момент Гавва не считал себя вправе. И он так и дошел до здания совмина.
В Грузии, наверное, нет человека, который хотя бы однажды не посмотрел видеокадры, запечатлевшие последние мгновения жизни Жиули Шартава и других защитников сухумского дома правительства 27 сентября 1993 года. Вот он- пылающий в огне Сухуми. А вот- Жиули Шартава и другие пленники, взятые в кольцо ликующими победителями. Юра Гавва стоит в этой группе крайним. Как он вспомнит впоследствии, зять Вахтанг из охраны несколько раз махнул ему рукой: подходи, дескать, к нам поближе. Вахтанг стоял рядом с Жиули, и ему, видимо, казалось, что рядом с шефом надежнее и безопаснее. Какое заблуждение! Пройдет всего несколько минут, и он в этом убедится лично, когда пронзенный длинной автоматной очередью будет падать на мостовую, провожая угасающим взглядом падающий с неба одинокий осенний лист. Несколько месяцев спустя его жена Нана случайно обнаружит фотографию уже бездыханного тела Вахтанга на обложке какого-то зарубежного иллюстрированного журнала. Тогда и узнала она о гибели мужа.
... Я вновь и вновь всматриваюсь в эти драматические кадры, и мне хочется вмешаться, остановить события, написать другой сюжет этой печальной повести.
Представьте себе: война или, иначе, междоусобный конфликт. Осажденный город, разрушенные дома, слезы, кровь...При этом среди тех, кто возглавляет противоборствующие стороны, - люди, близко знающие друг друга, Жизнь развела их по разные стороны баррикад, но возникшие еще в юности дружеские чувства живы.
Город вот-вот должен пасть. Оборонять его осталась горстка людей во главе с командиром. Когда стало ясно, что ни командир, ни его приближенные не сдадутся, у людей из противоположного лагеря возник дерзкий план: спасти обреченных. Изменой тут не пахло, все было просто и понятно: в ходе решающего штурма, когда кровь застилает глаза и в сердцах нет места жалости и состраданию, избежать худшего...
Не буду излагать подробности. Скажу только, что перед самой атакой командир и его сподвижники были спасены.
Красиво, не так ли?! Есть, значит, в нашей жизни вещи важнее, чем гордыня, вражда и ссора...
В этой истории, дорогие читатели, все правда, кроме одного: на помощь осажденным никто не пришел. И в реальности ликующие победители вели пленников через центр пылающего города подальше от людских глаз - на расправу. Ее подробности неизвестны: в Тбилиси из Сухуми доставили лишь изувеченное тело одного человека - командира, Жиули Шартава. А где остальные?
До сих пор тщетно пытается выяснить что-либо о судьбе мужа и отца семья Джумбера Беташвили. Известно лишь, что когда Джумбера - одного из защитников города - вели со связанными руками, какая-то женщина подбежала к нему и вложила в распухшие от побоев губы дольку мандарина. "Его не могли убить. Даже под бомбами он помогал всем без различия, вызволял стариков, женщин и детей, он жил надеждой на примирение и вселял ее в других , - не уставала повторять жена Джумбера Нелли.
"Да ни один сухумчанин не поднял бы руку на Джумбера! - вот ответ с другой стороны. Но что произошло? Тьма тьмущая...
Юру Гавва везли из горящего Сухуми в Гудаута вначале на небольшом автобусе, потом, отделив от остальных пленников, пересадили в "Ниву". В машине, кроме водителя-абхаза, находились еще два боевика, тоже абхазы. Одному из них лет 10 назад завотделом административных органов Юрий Владимирович Гавва помог устроиться на работу. Он изучающе смотрел на Гавву, несколько раз попытался всучить ему пистолет, сопровождая каждую свою попытку словами: "Юрий Владимирович, а я на вашем месте пустил бы себе пулю в лоб". Самое интересное, что обращался он к Гавве на "вы" и по имени-отчеству. Другой боевик, наконец, не выдержал: "Да успокойся ты, наконец, мы же его в Гудаута везем...".
Юрий Владимирович Гавва будет освобожден из гудаутской тюрьмы три месяца спустя.
Борт самолета "ЯК-40" в аэропорту Адлера. Сюда только что доставили из Абхазии изувеченное тело командира - Жиули Шартава. Через несколько минут самолет возьмет курс на Тбилиси.
"Я был единственным из друзей Жиули, которому разрешили вылететь с группой наших представителей в Адлер за телом убитого предсовмина Абхазии, - рассказывал мне однокурсник Жиули Рамаз Абашидзе, недавно ушедший из жизни. - Тело Жиули покоилось на возвышении в центре самолета. В салоне, кроме меня, никого не было, да и я сам, не помню уже почему, находился за шторами - так что меня не было видно. Вдруг в самолет вошел Сергей Шойгу, возглавлявший в тот период российскую миротворческую миссию в зоне конфликта. Он подошел к телу Жиули, низко поклонился ему и сказал: "Прости, друг, что мы тебя не уберегли". Уверен, что Шойгу даже не подозревал, что за ним кто-то наблюдает".
...Это было незадолго до начала драматического противостояния. Я возвращался из очамчирского села Поквеши, в котором не был 25 лет. И опять, как в прошлый раз, стояло лето. Дул легкий ветерок. По обе стороны дороги шелестели высоченные деревья. Я вышел из машины и пошел пешком. Как и ожидал, моя нынешняя поездка в Поквеши навеяла грустные воспоминания. Люди, которых я знал в этом небольшом горном абхазском селе, уже отправились в мир иной. Ушла из жизни старая Агра - мать героя Володи Пачулия, закрывшего в 1943 году грудью амбразуру вражеского пулемета и повторившего таким образом подвиг русского парня Александра Матросова. Вскоре после нее не стало и Шота, младшего брата Володи.
25 лет назад Володю Пачулия посмертно наградили боевым орденом, и меня, тогда корреспондента молодежной газеты, приехавшего писать очерк о семье погибшего воина, по этой дороге из Поквеши провожал именно Шота. Помню, хозяин посадил меня на лошадь, а сам шел пешком. Лошадь подо мной была молодая, ей не терпелось понестись вскачь, а я был неважным наездником и с трудом усмирял ее нрав. В доме у Пачулия я прожил всего два дня, но мы расставались, как родные. "Приедешь еще?" - спросил на прощание Шота, заглядывая мне в глаза. А сегодня утром этот же вопрос задал мне на прощание уже не Шота, а его племянник Володя, брат сестры : "Когда приедете еще раз?". И я не знал, что ему ответить.
На дворе стоял июль 1988 года.